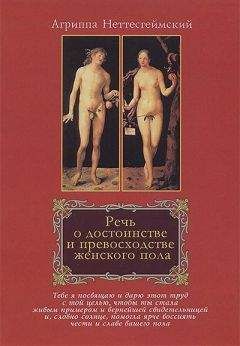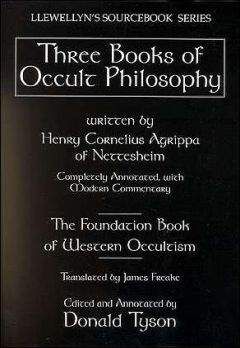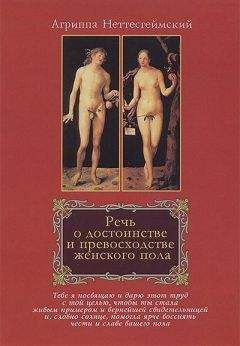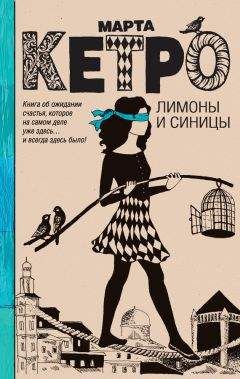Марта Кетро - О любви ко всему живому
– И вы с ним…
– Ну было дело. – Как будто солнечные драконы раскрывают крылья, когда он склоняется надо мной.
– А теперь?
– Считай его подарком. – Княжеским. «Добра ли вы честь?»
– Чего-то здесь нечисто. Я тебя знаю, просто так из рук не выпустишь. Порченый какой, не иначе, жеребец троянский?
– А-а-аннушка-а… за кого ты меня принимаешь? Дерьма не держим. Но у меня осенью куча выставок – Дортмунд, Мадрид, – несколько заказов. До зимы некогда вздохнуть, а с мальчиками возиться надо. Проще отдать в хорошие руки. – Десять лет прошло, я помню, а ты? Помнишь Игоря – простое имя, незаметное лицо, а я отчего-то любила. Тогда ты сама забрала, без спроса. Теперь твоя очередь носить мою боль, баюкать по ночам, прикладывать к груди.
– Маленькая ты сучка. – Анна сказала так нежно, что обидеться было невозможно.
– Вот и заботься о ближних! – Оленька помолчала, чтобы следующие слова прозвучали весомо: – Аннушка, я бы очень хотела для тебя счастья. – Такого же счастья, как у меня, Аннушка. Я всякий раз плачу, когда он уходит. Потом возвращается, и я смываю чужие запахи с его волос. Дарю ему шелковые платки, – он не понимает их цены, – завязываю ими его глаза во время любви, а в следующий раз замечаю на них чью-то помаду.
– Спасибо, Олюш. – Анна снова обняла ее, теперь почти искренне.
Они посмотрели на него, как две взрослые кошки.
– Правда, хорош? – Вот сейчас я вижу, как он нагибается над этой дурацкой тарелкой, и сердце мое разрывается. Я хотела бы скормить ему свою жизнь. Чтобы он бродил по моему дому, невозможно красивый, босой. Уходил, когда захочет, – лишь бы только возвращался. Ни о чем не спрашивать, только смотреть. Но однажды он не вернется.
– Очень. Я оценила, хотя мне сейчас тоже не до мужиков. – Но глаза ее стали сладкими, как инжир.
Оленька покивала и отошла, побрела по тропинке, и птицы за ее спиной клевали крошки, по которым можно было бы вернуться назад. Звуки плели душистые сети, запахи шептали и жаловались, но она уходила. И только у самой двери ее на мгновение задержали.
– С кем это наша новорожденная флиртует? – спросила какая-то женщина в скользком золотистом платье.
Оленька обернулась.
Они стояли очень близко, лицом к лицу, ее губы были около его шеи, она что-то шептала, прикрыв глаза, а он слушал, изредка отпивая из бокала.
– Это Роджер, ему двадцать девять и поцелуи его горьки, как дым.
А потом она ушла.
«Где твоя Кармен»
Она актриса. Разумеется, где-то училась, где-то играла, со всеми знакома. У нее есть работа – ассистенты по актерам время от времени позванивают, предлагают сняться в сериалах. В массовке, конечно, но это тоже хлеб, если часто. Пятьсот в день, со словами – тысяча.
С этим когда-то спала, и с этим, и с этим. Сейчас – только выпить вместе и «поговорить».
– Ну, между нами – я ведь хорошая актриса? Хорошая?
– Маш, ну чё говорить – хорошая, бля буду. – За кадром остается «только пить надо меньше, Маша».
– Я ж травестюха, до старости щенок. – Она закуривает «житан» и улыбается, не разжимая губ.
Мы сидим в гримвагене, я смотрю с усталой ненавистью – костюмы пропахнут дымом.
«Да посмотри же на себя – старая ты шалава, а не щенок».
– Француз мой зовет меня «девочка моя», «воробушек» – Пиаф знаешь? Приглашает к себе, представляешь, влюбился так, – она широко распахивает глаза, – пиииипец. А я не хочууу, я его не люблююю. – Теперь губы в трубочку.
«Господи, тебе и сорока нет, что ж ты истаскалась-то так. А самое мерзкое, вот эта твоя детскость придурковатая. Какая травести, на хрен, карлица грязная».
Вполне допускаю, что был какой-то француз и есть какие-то любовники. Маленькая, худая, быстрая. Ее небольшое, удачно, в общем, вылепленное личико непоправимо оплыло от пьянства. Одета «креативно» – подростковые тряпки, немного секонд хенда, здоровенная фенька на руке, многорядные керамические бусы на шее, три серьги в ухе и недешевая деталь из прежней жизни – хорошая кожаная сумка, довольно потертая, впрочем. До образа городской сумасшедшей всего ничего – добавить шляпку или боа, и готово.
И дурно зажеванный «орбитом» запах перегара.
– Я не хочу уезжать, я жду свою роль. У меня есть роскошное амплуа – шикарная опытная стерва в стиле Ардан…
Говорить с ней – мука, она играет каждую фразу. В ее «я так хочу чаю» вложено столько страсти, что я быстро приношу чашку и с ужасом жду трагической истории – ну, не знаю, как за ней только что гнались или ее чуть не сбила машина. Но в течение двух пустых часов до ее эпизода она умудряется живо и гладко повествовать ни о чем – так же восклицая, придыхая и всплескивая, – просто для того, чтобы удержать внимание. Это тягостно для меня, и к концу разговора начинает болеть голова.
К нам подходит помреж, они обнимаются, целуют воздух и начинают обсуждать знакомых. Она преображается – ее фразы изящны и точны. Она говорит о живых и об умерших, и в устах ее горечь, нежность и яд. Потом сникает, переходит на обычное злословие, и вот уже массовку зовут на площадку. Она мельком взглядывает в зеркало, поворачивается ко мне, чтобы чуть ли не потрепать по щеке, но вовремя опускает руку и уходит.
И в какое-то короткое мгновение я понимаю, что она знает о себе все. И чувствует каждую морщинку на лице, каждый седой волос под черной краской. Нарочитое безумие, ежедневно укрепляемое алкоголем, – это единственный бастион между нею и реальностью. Только бы не видеть своего настоящего лица. Своего настоящего. Своего будущего. О прошлом – не вспоминать.
И сквозь мою вынужденную филологическую трезвость, сквозь брезгливую рассудочную моногамию я чувствую родство, соединяющее нас. Потому что я тоже строю свои валы и бастионы – из реальности, которая отделяет меня от подступающего безумия. Только настоящее. Только будущее. О прошлом – не вспоминать.
Я машу тебе белым платком со своей башни и вижу, как далеко-далеко ты машешь мне в ответ – красным. Через расстояния я целую тебя, девочка, и желаю победы нам обеим.
Московская фиалка
(Олина любовь)
Последние полгода Оленька жила с тетей Машей, точнее, у тети Маши. Если девушка родилась неподалеку от Москвы, то почти наверняка часть юности проведет в пригородных электричках, потому что учеба, работа, развлечения, мужчины – все там, в центре. И когда после двадцати пяти устанет от разъездов, либо быстренько выйдет замуж за одноклассника и осядет в своем городке, либо сделает рывок и окончательно переберется в Москву. Оленька выбрала второй вариант хотя бы потому, что у нее была тетя Маша, мамина старшая сестра, владелица маленькой двухкомнатной квартиры в Новогирееве. Бывшая учительница русского языка, представительница вечно вымирающего и навсегда бессмертного племени интеллигентных пенсионерок «из предместья». Быть учителем в рабочем районе – это, конечно, не миссионерство среди дикарей, но определенная доля авантюризма и внутренней дисциплины необходима. При встрече с пьяным учеником через десять лет после выпуска в темном переулке никогда не угадаешь, падет ли он на колени, чтобы поцеловать натруженную руку любимой учительницы, или попытается забить ногами старую суку-бля-как-же-я-тебя-ненавижу. Чтобы избежать эксцессов, следовало всю жизнь держать дистанцию между собой и соседями, не заносясь, но и не братаясь с каждой бабкой у подъезда. И тетя Маша держала ее до сих пор, замедляясь около лавочки с дежурными старухами ровно настолько, чтобы поздороваться и отметить изменение погоды. Ни здоровья, ни цен, ни тем более политики тетя Маша с ними не обсуждала. Да, собственно, рано ей было к ним на жердочку – шестьдесят пять лет для умной женщины – это не старость. Из школы ее мягко выпроводили на пенсию всего четыре года назад, и если бы не отсутствие мужа, тетя Маша еще могла бы сойти за «женщину в возрасте» – а так, конечно, «пожилая» уже. Мужа не было, не сложилось, и обе комнаты тетьмашиного дома заполняли женские вещи, неинтересная мебель и книги, и никакого другого духа, кроме запаха кисловато-пыльного старения, не чувствовалось. В шкафу хранилась простая и строгая одежда – хлопковые блузки пастельных тонов, длинные черные юбки, шерстяные кофты и одна белая рубашка с рюшами из натурального шелка, которую тетя Маша надевала в праздники. На стенах висели вышитые фиолетовые цветы – ирисы и фиалки – работы покойной мамы, Оленькиной бабушки, которая лет тридцать назад тихо освободила одну из комнат, а фотографии, собранные в большую раму под стеклом, так и остались стоять на тумбочке, потому что просверлить стену и вбить надежный гвоздь под эту махину было некому.
* * *Тетя Маша пустила Оленьку просто так, даром, лишь бы носила сумки из магазина, оплачивала коммунальные и проявляла уважение. Последнее оказалось самым важным – сдав комнату за определенные деньги, тетя Маша временно потеряла бы права на квадратные метры, на пыльный воздух, на неусыпный контроль над происходящим, а этого допускать никак нельзя, потому что квартира за столько лет одиночества стала частью организма, и любое слепое пятно в ней ощущалось как тромб, грозящий омертвением и погибелью. А так Оленьке нельзя ни мебель передвинуть, ни замок в дверь вставить, разве что крючок изнутри, ну так он всегда был, крючок, а вот, уходя, комнату не запереть, потому что честной девочке от тетки прятать нечего, да и тетка без нужды не полезет, воспитание не то.