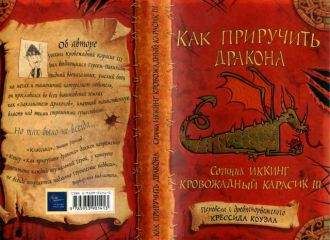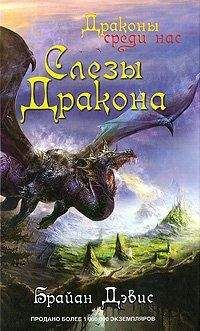Джон Краули - Эгипет
Теперь именно Хант был в безвыходном положении, на Ханта охотились, поскольку он теперь был иезуитом и за его голову была назначена награда. Уилл, несмотря на искушение (пусть минутное, но все равно стыдно) выдать его, спасает перепуганного священника, спрятав его в самый критический момент под самым носом у Уолсингемова патруля: прямо на сцене, заставив его играть комическую роль попа в антипапистской пьесе — попа, которого в конце концов черти утягивают в ад.
Хорошая сцена, подумала Роузи, прямо как для кино написана.
Ближе к концу книги Уилл отправился на гастроли по Англии и снова очутился в Стратфорде-на-Эйвоне, в семнадцать лет чувствуя себя стариком, мудрым, повидавшим жизнь и пресытившимся театром. Последняя длинная сцена с давно уже смирившимся с потерей сына отцом — на том же расстоянии, едва ли не с точностью до страницы, от конца книги, что и самый первый их разговор — от начала. Входи, Уилл. Прости меня, прости.
И все-таки — Роузи сама удивилась, как так можно было сделать, — в строгой симметрии сцен не чувствовалось никакой натянутости, которая мешала ей в других книгах; наоборот, возникало какое-то странное чувство свежести, ожидания.
Может быть, просто потому, что она знала о том, куда вырулит эта история дальше, знала не из этой книги, знала то, о чем все те, кто населял ее страницы, даже и не могли догадываться: ни Джон Шекспир, ни Джеймс Бербедж (который попрощался с Уиллом у фургона на заднем дворе стратфордского постоялого двора, смахнув скупую слезу, но и радуясь — про себя — тому, что отделался от этого долговязого юнца), ни даже сам Уилл Шекспир, который повернулся и пошел по Хайстрит к отчему дому.
Пришло время остепениться; время войти в дело отца: хорошее, чистое дело, не хуже прочих, пусть и без особого полета, но зато всегда прокормит человека на склоне прожитых лет.
И не только самого этого человека — Уилл почувствовал как подпрыгнуло у него в груди сердце, хотя ноги, его тяжелые мосластые ноги, все так же размеренно трезво вышагивали по Хай-стрит, — но сможет прокормить и его жену, и детей. Темноглазую женщину, каких много в Стратфорде.
А если он будет работать упорно и ровно, то даже из долгой памяти города со временем может стереться воспоминание о его нелепом побеге в Лондон и он сможет заслужить почетное имя доброго гражданина, одного из опорных столпов города Стратфорда — и даже, чем черт не шутит, Джентльмена.
Уилл подошел к двери в отчий дом, положив руку на эфес воображаемой шпаги, висящей на левом боку, как у всякого порядочного Джентльмена. На постоялом дворе актеры Бербеджа устанавливали сцену для старой пьесы про Цезаря, которого зарезали в Капитолии.
Бог мой, сентиментально до ужаса, подумала Роузи и едва не рассмеялась вслух от удовольствия, ибо на последней странице, в самом низу, большими буквами, было написано не «Конец», а
НАЧАЛО
Глава шестая
Один ягненок умер; он лежал мок рым комком возле матери, которая недоверчиво его обнюхивала. В глубине сарая овца умерла при родах: ягненок остался жив и пытался сосать молоко. Споффорд поднял лампу — в ее свете стали видны клубы пара от его дыхания — и тщательно пересчитал овец; он так устал, что едва мог считать. Остальные были в порядке. Итак, один мертвый ягненок, у его матери полно молока; и один ягненок остался без матери. Но живая овца не давала молока сироте; мешал какой-то инстинкт, запах или что там еще. Так что осиротевший ягненок умрет с голода, если только Споффорд не начнет прямо сейчас кормить его с рук.
Либо можно попробовать один старый способ, о котором он слышал от кого-то, вот только забыл от кого; у него остался в памяти смутный образ старого пастуха, который тоже научился этому у своего предшественника, и цепочка уходила в древность. Ну, что ж.
Он раскрыл нож и, действуя быстро и почти машинально, словно делал это уже много раз, освежевал мертвого ягненка, сняв с него тонкую влажную шкурку. Сделав это, он взял ягненка-сироту и, обвязав его этим жалким лоскутом из шкуры собрата, положил рядом с матерью умершего.
Мать, как могла, внимательно осмотрела его, обнюхала и признала за своего собственного. Уступая настойчивым требованиям замаскированного ягненка, она подпустила его к вымени: пусть живет.
Ну как вам это понравится, умилился Споффорд, у которого от возни со шкурой руки были перепачканы в крови до запястий. Ну как…
— …вам это понравится, — произнес он вслух и проснулся.
Была вовсе не февральская ночь, когда обычно ягнятся овцы, а декабрьское утро. Ночью выпал снег, первый в этом году, белый свет заливал верхний этаж его дома, и о том, что был снегопад, он догадался, не поднимая головы.
Елки-палки, подумал он взволнованно, бывают же такие яркие сны. Такие убедительные.
Он сел и почесал голову обеими руками. Его куртка из овчины, чистая, висела на крючке. Он рассмеялся: классный это был фокус с ягненком. Интересно, подумал он, правда, что ли, это помогает. Насколько ему помнилось, он никогда о таком не слышал, хотя в детстве ему как-то пришлось кормить вручную осиротевшего ягненка. Старый пастух из этого сна, рассказ которого он будто бы вспомнил (розовощекий, с обгрызенной трубкой, с волосами, похожими на овечью шерсть) точно был ему незнаком — полная выдумка.
За завтраком он решил: надо спросить у кого-нибудь знакомых местных овцеводов, есть ли такая уловка. Правда ли, что это известный старый способ.
А если правда?
Следующее решение он принял за мытьем посуды.
День казалось, отмечен был каким-то особым смыслом: этот сон, этот снежный отблеск, словно бы открыл, обнажил какие-то глубины в нем самом. В общем, закончив работу по дому, он отправился на Заимку к Вэл — давненько он собирался к ней выбраться. Ковыряя в зубах костью форели, которую держал специально для этой цели, он примерно наметил, какие вопросы ей задать, что за совет ему нужен и в какой области.
Дальняя Заимка Вэл, в Шэдоуленде, на зиму обычно закрывалась. Вэл так изъяснялась относительно этого закрытия, словно бы это она сама закрывалась на три месяца: «Я закрываюсь на Благодарение, — говорила она. — И буду закрыта до Пасхи». И в каком-то смысле Вэл тоже закрывалась. Стоило выпасть хотя бы легкому снежку, и она переставала водить машину; ее «букашка» (в которую рослая Вэл едва влезала, как большой клоун в крошечную цирковую машинку) превращалась в бесформенный белый холмик на подъездной аллее, и только когда машина скидывала по весне костюм снеговика, Вэл вновь садилась за руль. Все это время она (и ее престарелая мать, которая тоже жила в Заимке) целиком полагалась на телефон, на заботливость тех, кто к ним заезжал, и на определенный талант впадать в спячку, умение жить летними впечатлениями, занятиями, сплетнями и новостями, как на запасе подкожного жира. Собственно, когда дело уже шло к весеннему равноденствию, она и впрямь как будто усыхала, как медведица к весне.
Заимка представляет собой приземистое двухэтажное строение на берегу Шэдоу-ривер, добираться до которого приходится по одному из двух проселков — и с немалым трудом. Ни вывеска, ни обстановка почти не переменились за последние тридцать лет. Был один момент, о котором Споффорд часто с любопытством думал, но никак не решался потихоньку выспросить — давно ли Заимка перестала быть борделем. Из кое-каких обмолвок и полунамеков местных жителей он сделал вывод, что так и было еще на их памяти, в пользу этого предположения говорила и общая планировка дома (спереди бар и ресторан, сообщавшиеся с хозяйской гостиной, а наверху и в скрытой среди сосен пристроечке — несколько маленьких комнат, которые теперь пустовали), и характер матери Вэл, Наины, которая теперь ушла на покой и выступала в основном в роли креста, который влачила по жизни Вэл. Споффорд легко мог представить ее в роли этакой уездной бандерши; хотя он никогда не водил знакомства (по крайней мере, не в этой стране) с уездными бандершами. Теперь она посвятила себя особым отношениям с Богом и рассказывала небылицы о своем прошлом, в ответ на что Вэл фыркала и говорила ей колкости. Они никогда не жили врозь.
— К завтрему растает, — сказал Споффорд. — А я вот тут привез кой-чего. Положи в кладовку.
Он завез ей продуктов, лакомств и блок «Кента», о котором она просила, да еще проволочную корзинку апельсинов.
— Дороги расчищали? — спросила Вэл. Она имела очень смутное представление о реалиях зимней жизни, но любила о них поговорить. — Нет? А ты все-таки поехал сюда из-за этой ерунды? Распродолбаный ты сорви-голова. Думаешь, вымахал такой большой, так все тебе можно?
Споффорд рассмеялся:
— Вэл, снега не настолько много, чтобы забился протектор.
Она улыбнулась, прекрасно зная цену этой его показной скромности, и показала продукты матери:
— Глянь, ма. Что ты на это скажешь?
— Он хороший парень. — Мать сидела рядом с ней на койке. — Бог уготовит ему что-нибудь особенное.