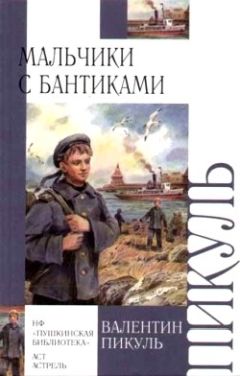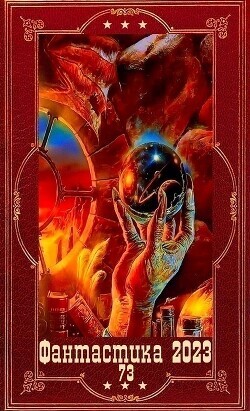Мальчики и другие - Гаричев Дмитрий Николаевич
Доезжачие подняли их в половину седьмого, когда солнце прошло укрепления и наполнило комнату; у отекших предметов пропали углы. Переступив на полу через медленно оживавшего Почеркова, Никита отыскал и поставил вариться кофе. Над умывальником был навешен пустой чешуящийся оклад от Покрова, позабытый им за то время, что он не ночевал здесь; шалый со сна, Никита сперва потянулся пальцами внутрь овальных пробоинок, но на полдороге отдернул руку. Пятнышки темноты в металлических лунках не вымывались от напиравшего солнца. Небо двигалось без облаков, торопливо и низко над островом; по гарнизонному радио, слышному в незатворенное окно, читали «Жизнь насекомых», главу о конопляных клопах; Никита залип, вспоминая, как ездил читать ее в центральную библиотеку, и едва не упустил кофе на плиту. Почерков, еще сидя на полу, бесшумно водил над собою гантелями. По ершовым молитвам Бог отозвал дождь и слякоть, поприветствовал он вышедшего Никиту; тот накренил над его вытянутыми ногами чашку, но Почерков успел поджать колени, и кофе попал на паркет. Под окном проиграли второй подъемный сигнал, и отвердевший полководец, в два прыжка достигнув окна, показал дожидающимся bras d’honneur; снизу радостно захохотали. Никита постарался спрятать улыбку и тоже поднялся, отрясая последнюю лень; внизу с доезжачими оказались юнкоры с планшетками: этих в замкнутом классе натаскивал Берг, в предыдущие времена послуживший народу в столичных позорных листках, во имя которых многажды был бит и гоним вдоль по улице; младших он восхищал на раз-два, и они подражали учителю во всякой фразе, как говорящие куклы. Почерков покивал им, не тратя каких-либо слов: о нем самом никогда не писали заметно, а всегда с осязаемым пренебрежением, как об отработанном паре.
Доезжачие объявили, что причастные собраны снизу от укреплений для приличной отправки; как угодно, откликнулся Никита и пошел впереди, втянув голову в плечи от солнца. Бетонные валы в несмываемых рыжих разводах, запиравшие ветер с реки, словно бы уверяли его в себе после суточного забытья, но ногам было все еще трудно не путаться. Сразу за укреплениями ветер хлопнул в лицо, ослепляя, но Никита успел распознать среди стоявших у воды Центавра и Несса; сбавив шаг, он дождался, пока его обгонит Почерков и другие, и так скрылся за ними от рукопожатий. Обличитель Энвера все же просунулся и спросил о здоровье, и Никита с трудом удержался от ответной колкости; Центавр, прошлый распорядитель подземной стоянки, не показывавшийся на поверхность все Противоречие, предложил себя в крайний отдел уже после того, как окончились конкурсы, а списки принятых раздали расклейщикам, и был взят по итогам единственного разговора с Трисмегистом, продлившегося якобы не больше пяти минут. Водники подали к острову катера из помятых, а на ближнем к Никите вдобавок оставалось несбитым клеймо муниципального флота; это было нелепой промашкой, но Никита даже не кивнул на это Почеркову, не желая его волновать и терпеть, пока водники пришлют на замену другое средство. Все же, когда объявили посадку, он поднялся на меченый борт, таща с собой и полководца; эти разносчики, увидишь, поженят нас в новом номере, предупредил его Почерков, глядя в сторону мальчиков и присаживаясь с ним в хвосте; Никита свесился к едва синеватой воде, не ответив. Их катер отвалил последним и пошел отставая; разместившиеся рядом с ними сидели не оборачиваясь, и ветер сотрясал их одежду так, что Никита не пробовал никого угадать со спины. Завсегдатаи стрельбищ избегали охотничьих сцен, презирая простую удачу; больше ездили разженившиеся из снабженцев, одутловатые мастера из реальных училищ и тоскующие без работы спасатели с дальних полигонов. Знаменитое место в устье, к которому, как легко было понять, они шли и сегодня, ничем не нравилось Никите: безразмерные сосны обставали приподнятый в виде слабого купола луг, глубже в лес залегали тягучие клюквенные болота; еще дальше на северо-запад начиналась полоса безответственности, о которой не любил вспоминать никто, кроме отселенного долой с общих глаз Корка, в лучшие для себя дни предлагавшего смелый проект для этих земель и известно завернутого вместе с ним: по всей видимости, глава счел, что командующий имеет в виду вырастить оснащенную вотчину с плохо предсказуемым развитием, и немедля рассыпал такие потуги. Полоса после этого в краткое время одичала так, что в ней вымерла и контрабанда; Корку же поручили работу над необучаемыми, прокаженским полком, как он сам их когда-то поименовал, и прозвище пристало. Не сживаясь с упадком, Корк насиловал и валял доставшихся ему растяп с неузнаваемым рвением, как это пересказывали Никите из госпиталя, но по тем же рассказам штрафники не испытывали к наставнику ничего, кроме жгучей любви; их чинили, вытягивали и скрепляли, и отправляли назад в разработку. Корк был, видимо, волен растереть их в песок: в дисциплинарных перечнях, выставляемых в пятницу утром к фонтану, его имя не проступало никогда. Пока он был всем виден, Корк казался Никите не умевшим следить за собой болтуном: когда речь заходила о невыясненных пропажах в полосе и все привычно серели лицом, он невпопад легчал, качал на всех головой и нараспев объяснял, что при необходимой сноровке полоса обеспечит их большим, чем повести о растворившихся в ней статистах и осведомителях. Отвращенный началом, Никита пропускал все дальнейшее мимо себя; впрочем, окончательная ссылка выдумщика никак не удивила его, в отличие от остальных, еще долгое время потом разводивших руками, но он допускал, что растерянность эта была нарочной. Корк еще говорил, что уступит мизинец тому, кто первым воспримет его построенья всерьез; получил ли глава такой подарок, Никита не знал.
Они высадились в удаленном ивняке, на уступчивой почве, и разобрали указанный доезжачими схрон: Почерков не копаясь взял себе американскую «Дельту» и без предисловий запел «Маркитантку»; подтянули немногие, но и по лицам отмалчивавшихся Никита почувствовал, что худшее миновало, и впервые за многие дни ему стало легко и послушно, как отличнику десяти лет. Когда все было выбрано и причастным раздали маски, они выдвинулись сквозь плакучие заросли на искомое место, к вечносияющим соснам; на снедаемом солнцем лугу, как надутый, дрожал и наливался Трисмегистов шатер, уступаемый вольнокомандующим для охот, в то время как сам он был знаменит расстройством, не допускавшим прицельной стрельбы. Навстречу с травы поднялись четверо с признаками шифровальщиков из «Умлаута»; этих, как понял Никита, заставили провести ночь снаружи, как всех начинавших; вид у них был несветлый, но скорей глуповатый, чем грозный, как случалось обычно. На их шум из шатра появился румяный подсказчик, зажимая одними ногтями болтающийся от ветра листок с легендой; вслед за ним возник Гленн со спортивным стаканом в розовой от ожога руке и сказал, что санчасть приготовлена, но желает сегодня остаться ни в чем не замешанной.
Подсказчик объяснил, что стрелковые цепи должны залегать по бокам от проезжего места на протяжении от щавелевой площадки до иловых карт, где уже рассажены получившие приглашения допризывники. Теперь предлагалось разобрать по желанию пледы из выставленной у шатра корзины и пройти на участки; Никита, не заглядывая, достал пакет с хорошо упакованной тканью и отправился с причастными вглубь сосен, задремывая после речной прогулки. В деревьях на них пала неровная тьма; остатки дороги, вдоль которой было указано расположиться, прятались в землянике и папоротниках, уходя далеко в едва прорезаемый сумрак, пахнущий промоченным мхом. Лес, ничем не известный ни прежде, ни теперь, понимался скорее как груз, доставшийся им так же, как достались переполненные больницы, залежи шлака на северном выгоне и муниципальные памятники выдуманным императорам и патриархам, до которых по-прежнему не доходили руки: еще год назад, когда все изнуряли себя неприменимыми к жизни вымыслами, один переплетчик домогался до главы, убеждая того свести все деревья в излучине «ради бергмановской ясности», но был отвергнут, и Никита не знал, хорошо это вышло тогда или дурно. Лес являлся ему испытующе, но вопросы его как будто не ждали ответа, а единственно смущали незащищенное сердце; волокно этой связи вилось неисследимо, но слышно сквозь шум ветра и слабую птичью возню; медные сосны выгибались назад, застывая как проволока. В этом тоже водилась заметная музыка, развивалась по-своему и сама остывала, но всегда оставалась ничьей, неберущейся, и Никита не мог до конца догадаться, что ему с этим делать; он шел мимо нее как подростком мимо нечистых компаний в саду за школой, провожавшей его клокотанием духовых из мансарды: сад запросто обходился по периметру, но его увлекало сбивчивое дыхание угрозы по оба плеча, так ни во что не слепившееся и ничему не научившее его. Он вырос в квартале за станкостроительным, зимами спотыкался о заметенные рельсы и заглядывал греться в натопленные проходные; прикасаться рукой к панцирю грузового вагона для него и тогда, и сейчас было понятней, чем трогать живое дерево. Можно было из розыгрыша подозвать мальчиков и огорошить их старческим воспоминанием о тогдашних снегах, выпадавших вдоль хвостового отсека, но Никита сдержался, чтобы не приваживать их.