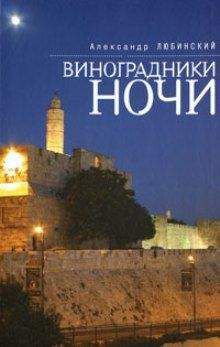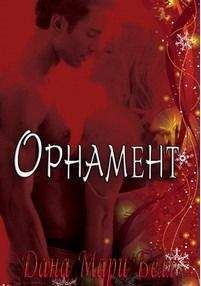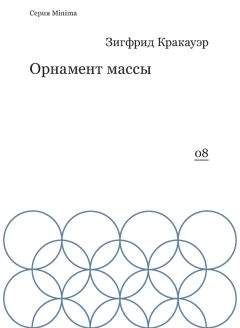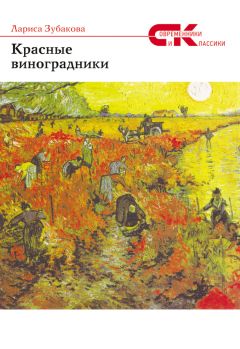Орнамент - Шикула Винцент
У Йожо были и другие, более дальние родственники, но из них упомяну пока только Эву. Это была его двоюродная сестра, она писала ему один-два раза в месяц, а иногда вкладывала в конверт и небольшую сумму денег. Их никогда не было много, но Йожо жил скромно, и мог довольствоваться такой маленькой суммой. Письма приходили на мое имя. Я знал Эвин почерк, и поэтому никогда их не распечатывал.
У меня тоже не было лишних денег, я не мог ими разбрасываться, но по сравнению с Йожо мне жилось намного лучше. Я получал стипендию, время от времени что-то присылали из дома. Иногда я помогал в корчме, обычно в выходные по вечерам, и пани Ярка, когда заведение закрывалось, всегда мне в карман совала какую-нибудь денежку. Когда ей привозили уголь, она приходила ко мне и просила перекидать его в подвал. Одежда моя при этом сильно пачкалась, зато и платила она больше, чем за работу в выходные дни. Деньги, полученные из этих источников, я экономил, покупал дешевую одежду, питался в студенческих столовых и в корчме, курил дешевый табак, пил только пиво — его, а часто и табак, пани Ярка давала мне даром.
Йожо начал учить меня французскому языку, мне хотелось его как-нибудь отблагодарить, и у меня это получилось, правда, не совсем так, как я себе представлял. Однажды я принес ему зимнее пальто, оно было коричневое или бежевое, какого-то неопределенного цвета между коричневым и бежевым, наверное, оно мне понравилось, иначе я не стал бы его покупать. Но Йожо отказался его взять, говоря, что был бы мне слишком обязан. Если уж мне так хочется — это он сам предложил — я мог бы подарить ему свое серое, поношенное, которое мне и так было велико. Довод показался мне смешным, поскольку Йожо был еще ниже ростом. В конце концов, я согласился с тем, что с его стороны было разумно отказаться от нового пальто, ведь он почти не выходил из дома, а я бывал на людях каждый день. Больше всего меня обрадовало, что Иренке это пальто понравилось. Она похвалила его, но я только махнул рукой, что должно было означать, мол, пальто самое обычное, нечего о нем и говорить.
Бывало, когда мы лежали с ним на кроватях, я спрашивал его снова и снова: — Может, скажешь, кто тебе посоветовал прийти именно ко мне?
Он улыбался: — Хочешь уже меня выгнать?
— Нет, этого я не говорил. Но мне бы хотелось знать…
Дело было ночью. На улице орали кошки. Мы глядели друг другу в глаза, а кошки завывали все жалобнее.
— Не могу. Может быть, потом, в другой раз.
— Когда — в другой раз?
— Положись на время!
Но я так и не смог узнать, как он ко мне попал, кто его ко мне послал.
Позднее я купил себе и ему калоши, ботинки показались мне слишком дороги. Я надевал их каждый день, но, конечно, особенно радовался им, когда шел дождь. Йожо выходил из комнаты лишь изредка, обычно — вечером, после того, как на улицах стихал шум, в окнах зажигался свет, а перед корчмой, где работала пани Ярка, включали газовый фонарь. Тогда он выходил в сад подышать свежим воздухом. Только однажды он позволил мне уговорить себя выйти на улицу; мы шли узкими переулками и добрались до окраины города, до того самого холма, на котором я живу теперь, обошли кругом дом, и нам показалось, что здесь царит какая-то странная тишина. В саду мы нашли несколько подмерзших яблок. Я порой представляю себе Йожо, как он ходит под деревьями и ищет яблоки. В свете луны блестит резиновая калоша. На обратном пути мы прошли через площадь, она была почти пуста, лишь кое-где впереди появлялся пьяный прохожий и, словно испугавшись нас, быстро сворачивал куда-нибудь в переулок или в подъезд, и там что-то громко бормотал себе под нос.
Да, я изменился. Стал меньше бездельничать и больше думать об учебе и о своих обязанностях. Домой, к родителям, я ездил редко, оправдываясь тем, что должен много заниматься. Шел последний год учебы в университете, надо было потихоньку начать собирать материал для дипломной работы. А если из дома приходило письмо, оно меня всегда как-то расстраивало, выбивало из колеи. Родители вступили в сельхозкооператив и с тех пор постоянно на что-нибудь жаловались. Собственно, жаловался только отец, ему все время казалось, что его обижают. Мама писала мне длинные письма, но не жаловалась, наоборот, каждый раз кого-то проклинала. Правда, уже через пару дней я об этих письмах забывал.
Повторю еще раз: я изменился, но это не означает, что я перестал быть веселым, как прежде, наоборот, Йожо мой веселый нрав еще более поощрял. Вот, скажем, сижу я над книгами, а он ни с того, ни с сего спрашивает: — А ты когда-нибудь видел башню из бульбы?
— Нет, не видел.
Он смеется. — Когда будешь на поле, встань посреди грядок с бульбой и смотри оттуда на башню.
Минуту спустя: — Почему же ты не смеешься?
— Над чем тут смеяться? — Я все же слегка улыбнулся. — Анекдот-то старый, с бородой. К тому же это неправильно с точки зрения грамматики.
— Почему? — Он немного подумал над этим замечанием, потом махнул рукой и сказал: — Много ты понимаешь!
Потом он пользовался этой фразой в разных ситуациях. Как-то раз мы варили кофе, и я советовал ему положить в чашку сначала кусок сахара, и только потом сыпать кофе; он засмеялся и сказал:
— Больно ты хорошо в этом разбираешься!
В другой раз он хотел повесить на стену картинку, залез на стул, держа в руке гвозди, и попросил меня подать молоток. Я подал ему топорик. Он взглянул на меня и сказал:
— Больно ты хорошо в этом разбираешься!
Йожо утверждал, что пойдет снег, а я — что на небе ясно, и никакого снега не будет. Он смотрел на меня: — Слушай, больно ты хорошо в этом разбираешься!
Я мог бы привести много таких примеров. Со временем эта фраза распространилась среди моих однокашников, ее можно было услышать в коридорах, в учебных классах, во время лекций. Если какой-нибудь профессор произносил длинную и пустопорожнюю речь, кто-нибудь из слушателей потихоньку бормотал: — Больно ты хорошо в этом разбираешься!
Парни пошли в уборную, и кто-то сказал своему приятелю: — Осторожно, штанину не обмочи!
На что тот отвечал: — Больно ты хорошо в этом разбираешься!
Йожо давно уже забыл про эту фразу, я тоже перестал ее употреблять, но в братиславских вузах, в парках, на улице, в кафе — повсюду разносилось: — Больно ты хорошо в этом разбираешься!
Наверное, некоторые из моих однокашников еще и сегодня радуют или злят своих друзей этим невинным и когда-то, по крайней мере, для нас, остроумным замечанием: — Больно ты хорошо в этом разбираешься! Начальник говорит это своему подчиненному, подчиненный — ворчит за спиной своего патрона: — Больно ты хорошо в этом разбираешься! А кто-то, возможно, смотрит дома телевизор, слушает выступление какого-нибудь политика и вдруг прыскает: — Больно ты хорошо в этом разбираешься! — И выключает телевизор.
Так он и жил у меня. С улицы к нам доносился шум, смех, разговоры. Поначалу его это очень нервировало. Порой он ни с того ни с сего бросался к дверям, наводя страх и на меня. Днем и ночью мы слышали шаги, иногда громкие, словно прохожий хотел вломиться прямо к нам в комнату, иногда тихие, будто кто-то шел, не желая никого побеспокоить, а иной раз — тихие и поспешные, по которым можно было понять, что прохожий не хочет привлекать к себе внимание, что никто не должен знать, в какой двор он зайдет, в какое окно постучит. Но в другой раз могли топать чуть ли не по лестнице, а Йожо только приподнимал голову и не двигался с места. А заметив, что я прислушиваюсь с еще большей, чем у него, тревогой, смеялся.
Несколько раз он хотел пойти со мной вечером прогуляться. Я не соглашался, но когда потом возвращался домой, приходилось рассказывать ему, что видел и с кем встречался. Ему были интересны любые мелочи. О своих знакомых я должен был говорить подробно, не забывая, как они были одеты, где живут и даже, как будто мы вместе с ним собирались зайти к ним в гости — по каким улицам лучше туда добираться. Я нарисовал план города, по вечерам дополнял его, обозначал на нем важные места, а когда уже нечего было исправлять или улучшать, мы сидели над ним, и я по каждой улице, даже по каждому заметному дому давал ему подробные пояснения. И когда мы оба все это выучили назубок, то снова попытались, сначала теоретически, пробраться к городским стенам, вдоль которых можно было пройти почти ко всем отдаленным закоулкам города. Поскольку мы планировали осуществить эти вылазки ночью, то никаких препятствий перед нами не возникало, достаточно было сбежать вниз по лестнице во двор, минутку постоять и прислушаться, потом открыть ворота и выйти. Однако ходили мы только в сад, где нас никто не мог ни увидеть, ни услышать, и все-таки старались разговаривать почти шепотом. Но репетиции нам вскоре надоели. Все равно эти вылазки происходили только в наших головах — так почему бы не запланировать их на какое-то другое время, скажем, на полдень, чтобы в этом было больше азарта. Я снова взялся за изучение того, что в городке, в том или ином его квартале происходит днем, куда устремляются торговцы, кто рассиживается в корчме, а кто целый день бродит по улицам и с какой целью. Разумеется, мы и не думали, что будем единственными в городе, кто занимается такими делами. А когда все было готово, мы попробовали выбраться сначала в безопасные, а потом и в менее безопасные места; мы могли остановиться перед почтой, перед банком, даже перед ратушей, могли бы осмотреть, если бы он не был заколочен досками, памятник Урбану Боршу, прославленному мастеру, резчику и бондарю, пройти мимо него и выйти из города через северные ворота, на которых видна надпись: