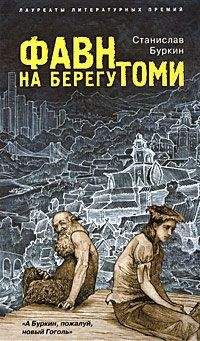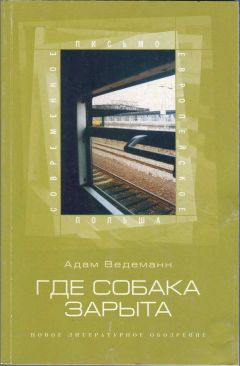Фавн на берегу Томи - Буркин Станислав Юльевич
Измученная костлявая лошадь с забинтованными бабками то и дело начинала хрипеть, хромать и приостанавливаться. Это приводило ее чинного хозяина в ярость, он, словно ужасаясь, выпучивал глаза и нещадно хлестал ее, ругая доходягу просто и страшно.
А Бакчаров все смотрел на дорогу. Телега шла по сплошной грязи, и ее брызги иногда долетали до лица измученного учителя. В сгущавшихся сумерках Бакчаров разглядывал громадные, казавшиеся снизу кривыми темные сосны. Их развесистые кроны нависали над дорогой, а ветви поворачивались, словно руки лесных чудовищ. Осины шумели и облетали при каждом порыве ветра, и тогда листья их стремительными хаотичными стаями неслись по лесу.
Бакчаров устал от томительного молчания, похлопал ямщика по спине и крикнул неверным голосом:
— Долго нам еще добираться?
— Христосе! Шарам своим не верю! Очухались, баре. Долго ли, коротко ль — одно на потребу, ехать и ехать, тако и через Тобол третьего дня переправимся, — басовито окая, чинно отозвался ямщик. — До Томска есче далече! А я уж пужался, кабы вы, баре, в доски не ушли в дорогето. Помирали ведь. А тапереча вот, слава богу, очухались. Верст за двадеся осемь до деревни докатимся. Прозвание ей Кутьма. А я все баче, баре, на вашу голову. Откеды штука таковска? Кака энто за шапка така? Вы як мате, баре, ходитьто в ней? В оной же и не видать ничаго. Аль я не учул якой премудрости? Но, шевелись! Опять стала, безногая!
Лошадь в ответ только закинула голову и заржала.
— Как зовут тебя?
— Името мам Федот Грибов, но добры люди Бородою величают мене, — отвечал ямщик с расстановкою, чтобы при непредвиденном толчке не откусить себе кончик языка. И впрямь, борода у него была удивительная. Густая и легкая, она раздваивалась и, как громадные клещи, возлежала на широкой крестьянской груди. Все на нем было громадное. Новыми у него были только светлые лапти, а остальное ношенным уже много лет по бескрайним и суровым просторам. У него было доброе русское лицо, большой лоб, большой нос, большие губы, большие руки, мягкие воздушные волосы. Его глубокий бас приятно напоминал о теплой печке и деревенском уюте. Во время пути он часто поднимал нос по ветру и, блаженно щурясь, втягивал запахи проплывающих мимо полей и лесов. Тогда его борода еще сильнее раздваивалась и развевалась по ветру.
Ночью тайга была страшна. Она словно презирала людское племя. Мгла, текущая между ее стволами в ущельях, казалась частью той самой полярной мглы, что идет оттуда, где конец мира, где скрывается в бесконечном ледяном мраке нечто лютое и громадное, что называется Арктикой и что с каждым днем все озлобленней и озлобленней насылает на Россию свои сизые леденящие чары.
Когда становилось совсем жутко, Борода, словно оградительные заклинания, заводил бодрые народные песни, и от его надрывного перепуганного баса кобыле и учителю было еще страшней.
Глубокой ночью они выехали на дорогу, которая шла высоко по склону горы. Их телега, постукивая и поскрипывая, покатилась мимо заросшего бурьяном и кустарником деревенского кладбища, спрятанного на лесистом склоне. Во время езды полусгнившие кресты с косыми поперечинами, казалось, двигались, выходили один изза другого и походили на армию многоруких пугал, беззвучно наступающих изза голых прутьев и березовых стволов. Обогнув кладбищенский бугор, телега Бороды сильно накренилась и покатилась вниз по косогору.
Сбоку в лощине появились темные избы с маленькими, тускло горящими оконцами, говорящими о том, что за их стеклами находятся теплые, обжитые деревенские горницы. И Бакчаров испытал чувство облегчения, когда Борода свернул с тракта и направил лошадь на эти уютные огоньки.
— Сейчас свернем, баре, — запоздало пробасил ямщик, разворачивая лошадь. — У, как дуеть на мене Кутьма, уу! — И его сутулая фигура вздрагивала и тяжело раскачивалась над головой учителя. В эти томительные мгновения Бакчарову вспоминался жгучий, терзающий образ его возлюбленной Бетти, и он чувствовал себя отомщенным. Все тело его ныло, но на душе был мир. Его мечта сбывалась, каждая тягучая минута приближала его к Сибири.
Возобновляющийся жар выписывал на внутренней стороне его век краснозеленые пятна, в которых смутно проступал лик надменной Беаты. Глаза ее, совсем еще детские, светлосерые, втягивали в себя, заставляли забыть все, о чем думалось, все, чего хотелось… Два бездонных моря ее глаз, становясь все больше и больше, заливали затуманенный ум учителя, и он начинал, как младенец, беспомощно водить перед собой руками.
— Ну, всевсе, баре, почти приехали, — утешал его Борода. — Переночуем в тепле. Провалиться скрезь землю Бороде!
— Мне кажется, я заболел…
— Чавочаво?
— Плохо мне. И я очень голоден. Борода, поедем побыстрее, — жалобно стонал учитель в полубреду.
— Но! Чертовка непасеная! Тебе говорят, кобыла, а ну пошла, — стегал ямщик лошадь. — Шо, Бороду забыла! Поглядите, люди, какая падаль, бестия! Ты ее хлесь, а она тебе: слезь. Но, Рая, когда поедя? Энтот лес, прозвание ему тайга. Конца нет ему. Тама лесная сила бесовская, уу! Тама волчье воинство! Эй, Райка! Опять стала, чертовка Валаамская. Инно жара кака анафемская! Но, тебе говорят, мазепа…
В деревне их встретила у забора старуха и проводила в приземистую избу под суковатой вербой. Сойдя с телеги, учитель понял, что состояние его здоровья куда хуже, чем казалось во время езды. Ноги Бакчарова почти не слушались, он шел, опираясь на плечо Бороды.
Бабка, охая и ахая, осмотрела Бакчарова и тут же принялась готовить снадобье для него, а Борода усадил учителя на лавку за стол в уголок и принялся трогательно кормить его. Он кормил его медленно, с той обстоятельностью в движениях, которая свойственна крестьянам. Неторопливо, степенно отрезал для него своим большим поясным ножом краюху хлеба и начинал стругать сало, подавая кусочки учителю тут же прямо на лезвии. Он долго уговаривал Бакчарова есть даже тогда, когда тот стал отворачиваться и отмахиваться. Потом хворого путника стала отпаивать горькими отварами старуха и при этом рассуждать трудно понимаемым языком глубинки с ямщиком о чемто страшном и почти сказочном. Она, то и дело крестясь и скашивая испуганные глаза на иконы, рассказывала о неком древнем и зловещем лесном явлении и какомто обладающем сверхъестественными возможностями разбойнике.
— Такто, сила бесовска, — говорила она тихо вполголоса, словно ее ктото мог подслушивать, — гряде на землю русску. Пабн Темночрев ему прозвище. Он лет за полета уж ходяша в лесах тутошних, да по весям страху сатанину на люди нагоняша. Я о ем в свой век слыхивала, я на ем зубы источила молитвою, дыру во лбу пробила крестным знаменем. Яко он входяша в веси, или во град, или села, тако и на распутьях силою бесовскою люди обдержаша и по своей воле сатанинской водяше. И барин твой, ямщик, печать его на себе носяша, яко же Темночрев по пятам его идяше и с уды своея анафемской не спускаша…
— Ты как мозгушь, стара, аль я не учул, откеда ты таковска? — весело возмутился Борода ее испуганному лепету. — А и проста ты, мать, погляжу, така глазаста, а дура. Шоб мне скрезь землю провалиться! Ты вот башь, каки энто, — як его прозвище — Темнобрюх твой? Не оной силы баре мой. Худой он совсем, хилый. А Пабн Брюх тот, народ говорит, за версту виден был, земля трясе от ходу его…
— Святый отче, угодниче! — рассердилась хозяйка на Бороду. — Тебе говорят аль нет? Барин твой печать злую темночревову на себе носяша, яко тот по пятам его гряде…
— Мати Безневестная! — посерьезнел ямщик. — И впрямь окромя чумадана у баре еще яка бесовска штука на главе была. Пузырь, язвить меня в душу! Ейбогу, пузырь! Неужто энто темнобрюхова скверна?
Бакчаров переводил глаза с одного спорщика на другого, пока сам не ввязался:
— О каком таком злом пришельце вы рассуждаете?
Спорщики враз замолчали и уставились на Бакчарова.
— Какомкаком, о Пабне, враге народу хрестьянского, — пояснил Борода. — А вы шо энто, в Москвах, о Темнобрюхе не слыхали?