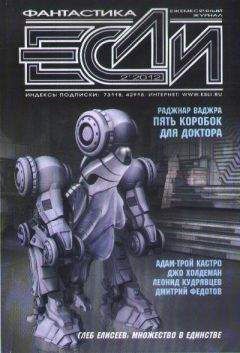Аут. Роман воспитания - Зотов Игорь Александрович
И я подумал, что мне лучше уйти. Домой спать. Но вспомнил отца. Представил, как тот звонит матери, орет, что она меня развратила, что я – полный идиот, что пропал… Не пойду.
Вошла Тана, поставила зонт в угол, стала вынимать еду из пакета: кусок сыра, упаковка булочек, большой пакет чипсов. С паприкой.
– Задолбал дождь, – сказал Герхард. – Задолбал. Тана, дай зонт, завтра верну.
Та-та-ту-ту-ту-ту-ту-та-ту-тум! – стучит Чумовой Жинито, глаза закрыты, шрам набух. Он, верно, и во сне может стучать.
– Я тоже пошел, – сказал Хосе-Мария. – Гитару оставлю. Дождь кончится, в бар приходите. Питер, Жинито, идете?
Та-та-ту-ту-ту-ту-ту-та-ту-тум! – ответ Жинито.
Питер пошевелился в углу. Открыл глаза, вернее, один – правый, а его левый, на обожженной половине лица, как будто и не закрывается вообще. Глотнул виски. Поднялся, взял скрипку. Сделал шаг, но пошатнулся и рухнул лицом вниз – скрипка об пол, звякнули струны. Хосе-Мария и Герхард принялись его поднимать.
Та-та-ту-ту-ту-ту-ту-та-ту-тум!
– фу-у-у… – выдохнул Герхард. – Опять тащить. Хватит стучать, ублюдок!
Та-та-ту-ту-ту-ту-ту-та-ту-тум!
– Как ты сказал? – мычит пьяный Питер. – Как ты сказал? Как?! Как?! Как?!
– Пойдем, пойдем, – Хосе-Мария успокаивал приятеля.
Питер встал, ногой отбросил скрипку.
– Ну, пойдем, вене-су-эльс-с-ская с-ко-ти-на, – сказал. – Ненавижу! Всех! Всех!
Та-та-ту-ту-ту-ту-ту-та-ту-тум!
Они вышли на крыльцо, попытались пройти по доскам, но не удержались, рухнули в воду. Сперва громкая ругань, потом хохот.
– Нажрались, как русские, ха-ха-ха!!! – это Герхард.
– Эй, Тана, забери зонт, не нужен, – крикнул Хосе-Мария.
Тана вышла, вернулась с зонтом, поставила его за дверь и поднялась на второй этаж. Голоса удалялись в сумерки.
Та-та-ту-ту-ту-ту-ту-та-ту-тум!
Я глядел в окно и вдруг увидел, как край неба на севере светлеет, облака расходятся и робко пробиваются солнечные закатные лучи.
– Тана, дождь кончился! – крикнул я. Она спустилась.
– Дождь кончился. Я пойду.
– Ты мокрый-мокрый, куда пойдешь? – сказала она, показывая на мою одежду.
Она и вправду была еще хоть выжимай, и я как-то сразу вдруг ощутил неуют и холод.
– Есть утюг, – сказала Тана. – Раздевайся.
Меня это смутило – я испугался: если разденусь, то получится то же самое, что и днем. А я не хотел этого, после этого мне пусто.
Та-та-ту-ту-ту-ту-ту-та-ту-тум! – стучит, стучит Чумовой Жинито, ему плевать, плевать.
Я не верю, будто он убил девятнадцать человек и отрезал им уши. Надо его спросить, но не хочется. А потом, что я спрошу? – Скажи, Жинито, ты правда убил девятнадцать человек и отрезал им уши?
Я потрогал свои уши, те места, где они крепятся к голове. Смешно, наверное, без ушей – две дыры по бокам. Зато туда можно что-то вставить – цветы, например, или антенны.
Я пошел на кухню, разделся, протянул оттуда Тане одежду – штаны, рубашку и куртку. Она улыбнулась, дала мне плед. И чего эти азиаты все время улыбаются, как резиновые?! Будто им всегда весело.
Меня вдруг та-ак пробрало, прямо трясти начало от холода! Тана достала утюг, разложила мое добро на матраце и стала выпаривать влагу. Медленно-медленно. Ткань шипела, испускала пар, я же дрожал под колючим пледом. Тана отставила утюг, пришла ко мне.
Обняла, забираясь руками под плед, а губами ища мои. А я только собрался рассказать ей про того фашиста… Опять сладко внизу живота. Но я-то знаю – это всего на несколько секунд… Она хочет дать мне секунды, а я хочу все. «Не надо, Тана, не надо», – шепчу я, а сам прижимаюсь. И губы мои уже не мои губы, а ее губы. «Не надо!» – а она тянет меня вниз. Она делает что-то со мной, так что я почти теряю сознание. Взрыв, взрыв страшный, сладкий. Я, кажется, хрипло кричу, как сквозь сон, как будто слышу себя, свой хрип, свой стон. Все. Без дна.
Я очнулся на полу, накрытый пледом. Ого! – в окно светит полная луна. Дорожка от нее бежит к середине озера. Слышу шорох из комнаты. Заглядываю туда, и ужас! Передо мной черная задница Чумового Жинито ходит туда-сюда как заведенная, а под ней торчат в разные стороны маленькие кривые ножки Таны. Вот бы пинка! Но надо беречь уши.
Возвращаюсь на кухню. Джинсы мои, уже почти сухие, сложены рядом с матрацом. Надеваю их с трудом, лежа. Лежу. Идти, поздно, но я лежу.
Входит Тана, голая. Не стесняется. Смуглая грудь чуть колышется. Как ей не холодно! Она смотрит на меня, улыбается полными губами. Нет, она все-таки ангел и сама того не знает. Надо, чтобы узнала. Такая мысль бывала у меня и раньше, я и раньше, когда встречал ангелов (нечасто, правда), говорил им про это. Говорил, что они просто забыли самих себя, забыли свою ангельскую сущность. А они пытались меня целовать, не все, но пытались, – в этом я вижу их ангельские наклонности. Потому что, кроме них, никто никогда меня целовать не пытался. Я не помню даже, чтобы мать пыталась меня поцеловать, даже в раннем детстве! – поэтому и знаю. В общем, я знал, я был уверен, что сейчас освобожу ангельскую сущность Таны и у меня станет одним ангелом-хранителем больше.
Я встаю, подхожу к ней. Улыбается. Через ее плечо я смотрю в окно на лунную дорожку.
– Ты пойдешь, Тана, по ней на самое небо и станешь моим ангелом, – шептал я. По-русски, разумеется.
Дыхание ее участилось, руки скользят по моему телу.
– Сейчас, сейчас… – шептал я.
Я на ощупь открыл дверь, вывел ее на крыльцо.
– Холодно, – она прижималась ко мне.
Она, верно, решила, что мы будем делать это под луной.
Я тоже ощутил холод, он пронзил меня.
– Сейчас, сейчас… Потерпи…
Я медленно вел ее по террасе, огибающей дом, на другую сторону, в то место, куда протянулась лунная дорожка.
– Вот-вот, сейчас, сейчас…
– Холодно, вернемся…
– Сейчас, сейчас, Тана. Вот и пришли.
Я взял ее мягкое, маленькое, податливое тело, крепко сжал руки на ее талии, поднял и опустил прямо в лунное золото. Короткий – словно смех – вскрик, всплеск и… Где она, где?! Только круги по озеру. Прямо внизу, подо мной. Еще я увидел, как из кругов возникла на мгновение ее маленькая голова, руки… испуганные глаза. Ногой я наступил туда и, пока она не успела сделать вдох, снова погрузил ее в жидкое золото. Тихий всплеск, все исчезло. Я долго смотрел вниз, смотрел на дорожку, но и тени Таны не увидел.
Ни единой буквой не лгу, не лгу
Он был чистого слога слуга.
Он писал ей стихи на снегу, на снегу
К сожалению, тают снега…
Но тогда еще был снегопад, снегопад,
И свобода писать на снегу
И большие снежинки и град
Он губами ловил на бегу…
Пропел вполголоса.
Возвращаюсь, на мостках Жинито мочится в воду, шумно, долго. Оборачивается:
– Ты о’кей?
– О’кей, Жинито, я о’кей.
Он видел? Да черт с ним. Вхожу в дом, натягиваю майку, куртку – сырые еще. Жинито смотрит на меня с порога, улыбается. Я так и не понял – чего в нем чумового? Только то, что уши отрезал? Ну и что?
Прохожу мимо него – пока, Жинито, и ухожу, ухожу.
Бруклинский мост
I
Девять лет назад меня вывезли из Москвы в Нью-Йорк. Мой папаша – сногсшибательный программист, его и купили американцы. Чуть ли не сам Билл Гейтс купил. Как раз когда я оказался в Америке, родители открыли мне тайну моего рождения. Оказывается, я родился не один, а с сестрой, но она шла после меня, пуповина намоталась ей на шею – вот она и задохнулась. Дело было в Ростове-на-Дону, откуда родом моя мать, – она уехала туда рожать нас с сестрой.
Эта новость стала, очевидно, последней каплей в моих отношениях с родителями – с ними я как посторонний. Впрочем, и с остальным миром тоже. У меня и друзей нет. Все, кого я считал другом, от меня отказались. Рано или поздно. А как я старался! Еще в Москве я занимался спортом, качал мускулы, бегал, прыгал, чтобы быть наравне со всеми. Знакомясь, я говорил: «Хочешь узнать, какой я сильный? Давай поборемся». А они смеялись, крутили у виска пальцами. Я научился играть в шахматы, выучил книжку дебютов и говорил: «Давай сыграем в шахматы. Увидишь, как хорошо я играю!» А они смеялись, крутили у виска пальцами. Тогда я переключился на девочек, стал им рассказывать, какой я сильный, как я по утрам поднимаю пудовую гирю и как играю в шахматы. Сам с собой. Они не смеялись, просто отходили.