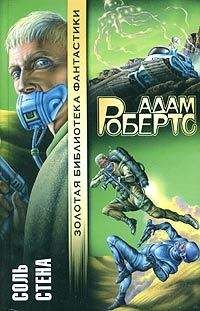Прыжок - Лапперт Симона
— Ну здравствуй, моя красавица, — прошептал он.
Наклонив голову вбок, курица уставилась на кулак, в котором побрякивали семечки. Когда она моргала, ее нижние веки поднимались к верхним, полностью закрывая глаза, не наоборот. Генри такой способ показался неудобным и затруднительным. Он попытался повторить за курицей и поднять нижние веки над зрачками, но ничего не вышло. Генри разжал кулак и бросил несколько семечек за ограду. Курица жадно склевала их и снова пристально посмотрела на него, как бы говоря: «Тебе заняться больше нечем?»
Когда он еще жил с Эстер на лесистой окраине Фрайбурга, к ним на участок захаживала соседская курица. У нее было такое же белое оперение и пытливый взгляд. Едва услышав их голоса, она гордым шагом входила в их сад через дыру в заборе. По воскресеньям, когда он лежал вместе с Эстер на овечьей шкуре под орешником и читал ей газету, курица устраивалась рядышком в траве, как кошка, и закрывала глаза, снизу вверх. Как только Генри замолкал, она открывала глаза, приподнималась и клонила голову набок. Только когда он продолжал читать, она вновь мирно опускалась. Под лестницей в сад Эстер соорудила из соломы небольшое гнездышко и положила туда деревянное яйцо. «Теперь она будет знать, где нести яйца», — сказала Эстер. И действительно, не прошло и недели, как они нашли первое яйцо, бледно-зеленое и теплое. До того дня Генри и не подозревал, что яйца бывают зелеными. Теперь он то и дело воровал здесь по одной штуке, когда собирал травы на неделю, не часто, всего лишь один-два раза в месяц. Утешительное зеленое яйцо.
За его спиной раздался предупредительный сигнал на железнодорожном переезде, к станции Тальбаха подъехал пригородный поезд. Генри обернулся и зафиксировал взгляд на циферблате станционных часов, секундная стрелка прошла полный круг. Он испытывал радость в тот миг, когда начиналась новая минута — еще одна минута, которую он прожил. Раньше он мечтал иметь больше времени. Например, когда бежал вверх по лестнице и свежая ткань рубашки под мышками пропитывалась потом. Когда его телефон во время звонка падал в томатный соус или в унитаз. Когда возвращался домой, а Эстер лежала, отвернувшись, на кровати и крепко спала после целого дня разлуки. Плечи спящей Эстер. Как он скучал по ее широким плечам. Да, Генри думал, что было бы лучше, имей он больше времени, времени ни на что, времени на пустяки. Времени без Эстер, да, и это тоже. В офисе районной администрации он вырисовывал жирными после фисташек пальцами кружки на стеклянном столе, один за другим, маленькие корявые жирные круги, слева направо в два ряда, на больше не хватало времени, потому что каждый раз звонил телефон и Генри принимался отмывать стол моющим средством. Он жаждал скуки, этого чувства, которое он помнил со школьных времен — дней без дат и имен. Фисташки он не ел уже очень давно. Станут ли яйца еще зеленее, если накормить куриц фисташками? Генри достал из кармана зеленый блокнот и огрызок карандаша, который взял много лет назад в гостинице во время командировки. «Гос» — эти три буквы — все, что осталось на карандаше от надписи. Генри развернул блокнот к свету уличного фонаря. «Какие твои любимые орехи? — написал он. — И есть ли кто-то, кто об этом знает? Если есть: он рядом? Если нет: почему?» Курица уселась на землю и моргнула, затем и вовсе закрыла глаза. Генри тоже сел на траву.
— Как думаешь, будет очень больно, если броситься под поезд? — спросил он.
Курица открыла глаза и наклонила голову вбок. В ее взгляде читалось: «Ты серьезно?»
Он встал и, пошатываясь, побрел обратно в сарай, из которого пришел.
Головки подорожника зашипели, когда Генри бросил их в кипящее на сковородке масло, великолепный аромат жареных шампиньонов ударил ему в нос. В это время в парке было тихо и спокойно, охранник уже запер садовые ворота — очередное новое правило: с половины одиннадцатого вечера парк закрыт для посещения. Его ввели вскоре после установки новых скамеек, спроектированных таким образом, чтобы на них нельзя было спать. Не учли одного: неудобно стало всем. Люди в большинстве своем не прочь посидеть в тени деревьев на прямых скамейках, вдали от шума дорог. И, прогнав бездомных стальными скамейками и бетонными островками, этим спроектированным пустырем постепенно прогнали и всех остальных, подумал Генри. Однако ему удалось перехитрить охранника, спрятавшись в зарослях орешника, как в низкопробном кино. Генри усмехнулся и убавил огонь на походной горелке, порылся в пакетах и достал вымытый стаканчик из-под йогурта, в нем смешал молодые побеги одуванчика и щавель с маслом и уксусом из маленьких пластиковых упаковок, которые он стащил из закусочной на площади. Добавил соли и перца из подаренных Розвитой солонки и перечницы. Утром он мог бы снова заглянуть к ней, сегодня был день шоколадного торта; обычно она давала Генри с собой кусочек, а иногда даже немного масла или французского сыра. Она всегда наливала ему кофе, налила бы и сегодня, но он не хотел злоупотреблять ее гостеприимством. Генри научился демонстрировать свою нужду другим дозированно, чтобы их помощь казалась им самим добродетелью, а не превращалась в обыкновение. Большинство вещей, которые люди делают по обыкновению, — и это Генри тоже усвоил за годы, проведенные на улице, — со временем начинают тяготить. Страх перемен превращает привычку в обязанность. Однако разнообразие — младший брат перемен — многим по душе. Вот почему Генри иногда платил за кофе и старался не частить к Розвите в дни шоколадного торта. Он еще раз перемешал содержимое стаканчика и закрыл глаза. Генри наслаждался наступлением темноты, которая понемногу сдирала краски с окружающего мира, голосами людей, возвращающихся из центра домой, постепенно замирающим движением транспорта; никто больше не смотрел на него с сочувствием, не шептался за спиной, не строил догадки о его истории. Он наслаждался мягким угасанием очередного пережитого дня. Темнота равняла его с другими жителями города, давала уединение, которого недоставало днем. Из кустов форзиции послышался громкий затяжной шорох. Не похоже на птицу, возможно, лиса, но не очень проворная. Генри достал фонарик и посветил на желтые ветки. Оттуда показалась голова Тощего Лукаса. Он выполз из-под куста вместе со спальным мешком, сел и потер руками лицо. Теперь о покое можно забыть. Генри так старался найти уединенное место для сна, что было крайне непросто. Несмотря на то, что на улице принято делиться всем — остатками вина, проездным на автобус, последней сигаретой, — свои места для сна бездомные все же хранили в тайне, потому как в усталости мораль уходила на второй план, сносные спальные места были в дефиците. А с тех пор, как во Фрайбурге кто-то облил бензином и поджег спящего на парковой скамейке бездомного, улицы окутал страх. Должно быть, Тощий Лукас следил за Генри и шел по пятам, иначе непонятно, как он здесь оказался. Лукас уже несколько дней шнырял поблизости: он был новичком в городе. Никому другому Генри бы такого не позволил, но Тощий Лукас, по сути, еще ребенок, всего девятнадцать лет, — именно столько исполнилось бы завтра сыну Генри. У него еще только начала расти борода, его руки всегда были чистые, светлые волосы убраны в хвост, свисающий с плеча. Он не пил, лишь временами выкуривал по одной сигарете, иногда поэтапно, чтобы растянуть на несколько раз. Кто знает, может, именно поэтому Генри и позволял Лукасу докучать ему.
— Эй, учитель, что делать, когда видишь в пустыне очередь из змей? — сонно спросил Тощий Лукас и открыл банку энергетика. — Ну же, ответь, очередь из змей, что делать?
Генри снял подорожник с огня.
— Понятия не имею, — сказал он, — не сталкивался с таким, и вряд ли доведется.
— Встать в хвост! — захихикал Тощий Лукас. — Неплохо, да?
Генри взял наполненную в фонтане пластиковую бутылку и поставил воду кипятиться.
— Хочешь? — спросил Тощий Лукас, указывая на банку с энергетиком.
Генри помотал головой.
— Я заварю себе липовый чай. От него лучше спится.