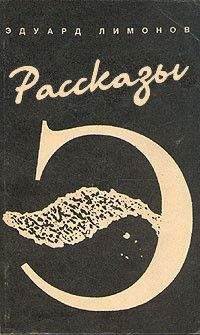Эдуард Лимонов - Дневник неудачника, или Секретная тетрадь
Не столько для сохранности, что с ножом против этого мира сделаешь, сколько для удовольствия нож видеть и щупать. Револьвер другое совсем дело — револьвер только решения требует, нож же храбрее.
А если рассуждать прямо, был я и остался преступный парень с рабочей окраины: чуть что — за нож. Как взгляну на фото, где мне девятнадцать — кривая усмешечка, жестокие глаза и губы — носа постановка — сразу и понятно — потому и нож. А Вы говорите…
Разве я изменился? Очки надел да волосами оброс.
Некого мне сейчас ебать — ребята! То есть есть, их два объекта, да не люблю я их. Стыдно их ебать, хотя иногда ебу накурившись или напившись, себя потом же ругаю. Честно говорю — некого сейчас ебать. Не вру, видите, не делаю из себя картинку.
«Хуй!.. — деточка моя. Безработный мой — неотъемлемая моя часть. Бедняжка! Жил бы сепаратно-раздельно с умной головушкой доброго молодца Эдьки Лимонова — то-то был бы доволен».
Предки мои, очевидно, землю любили. Как весна — так тоскливо, маятно, пахать-сеять хочется, землю рукою щупать, к земле бежать. А ведь был бы я наверняка мужик хозяйственный, строгий. Бабы любили бы и боялись, сыновья и соседи. Округа. Богатый бы, верно, был. Два раза в год бы только и напивался, для порядку. Чего ж судьба меня в Америку, в отель на Бродвее завела.
Пойдем в храм. Прокрадемся. Свечи зажжем. И согрешим. Не то что я там лягу на тебя, или что другое, а сделаем дешево и порочно, как в порножурналах. Ты станешь, положив руки и склонив лицо и плечи на кафедру, а я откину твое черное пальто — белый твой круп обнажится, от вида этой стареющей влажной белизны я совсем закачу глаза, ты присядешь, и мы с некоторыми усилиями поместим член в колодец и поплывем. И сопровождать нас будут мягкие пассаты и взоры нашего Бога, и вся внутренняя каменная и деревянная пахучая красота… И охи и вздохи, и свечек блистанье, и где-то в закоулках ощущение — это елка, это Новый год, это детство, и мама изготовила сладкие пирожки. И ты их ешь, и тепло желудку. И это их ешь ты в последний раз.
Мы расстреляли сестер, как полагается, на утренней заре. Трое моих друзей хорватов, и австриец из Шестого Интернационала, и представитель итальянских ультра Кастелли, японец Иошимура, и как чрезвычайный уполномоченный Лиги Уничтожения — я. Мы устроили расстрел в стиле начала двадцатого века. Мы выбрали усатого Божимира, и он зачитал приговор. Горные кусты уже раздирал край солнца, когда эти женщины упали в росистую траву. Мы стояли против них, как на всех классических картинах, — цели мы разделили — на троих приходилась одна сестра.
Я не совсем сейчас уверен в необходимости смертного приговора, но, может быть, нас обязывала суровая горная страна. Может, будь это в приморском городочке, где взвизгивает и брызжет вино, и танцуют в кафе под пластинки, не было бы расстрела, а совершилось бы только насилие, и то, подозреваю, не в групповом смысле. Я, как представитель Лиги Уничтожения, всем этим товарищам главный ведь был.
Впрочем, до расстрела младшая еврейка была приведена ко мне и была, лежа в белых тряпках, весьма хороша. Когда же я стрелял, я целил ей в это место. Хотя и без того о моих странностях ходят слухи, но удержаться не мог.
М.Ш.
Если я улягусь спать, я завернусь в свиной жир, и бараний жир. И будет мне не холодно, только не зарасти бы. Прежде чем садиться — постелите на сидение тонкий листок мяса. Опояшьте мясом чресла, чтобы скрыть наготу. Когда износится, сбросьте, возьмите другое мясо.
Положите под голову жирное, пухлое мясо.
Повесьте на стену мясо в раме.
Писайте кровью.
(И не расставайтесь с ножом!)
Медсестра сидела в углу.
Поль стоял у окна — улыбался.
Жан стоял у двери — улыбался.
Пьер стоял у стены — улыбался.
Медсестре стало страшно от их улыбок.
Двенадцатый муниципальный госпиталь в городе Арле открывается для приема посетителей в шесть часов утра. Больным приходят в головы странные фантазии — Общий Генеральный Совет Больных, их профсоюзное начальство проголосовали единогласно, и госпиталь открывается включением во дворе фонтана — даже зимой, в шесть часов утра. В двери входят ранние посетители — их не изобразишь словами. Следует видеть их лица — выражения этих лиц.
Русская газета пахнет могилой и старческой мочой. Все убого и жалко — старомодно, от объявлений до статей и стихов. Даже рецепт тети Моти — что бы вы думали? Ну конечно, «Постный перловый суп». Что может быть гаже и беднее! Не гусь, не утка, не просто здоровый кусок мяса, а постный перловый суп. Вот какие мы убогонькие, серенькие, замученные жизнью.
Некая К. Мондрианова просит М. Полштоф сообщить ей свой адрес. На хуя, хочется мне спросить, на хуя, чтобы вместе тоску зеленую разводить? Им бы по отдельности держаться или с мистером Смитом и мистером Джонсоном встретиться — веселые здоровые ребята, а они шерочка с машерочкой адресами обмениваются.
Умершие поручики и вечные корнеты. «В старческом доме, волею Божею тихо скончался лейтенант Б.». Далее куча всяких родственников и «дядя Миша», которого почему-то выделили, скорбят. На самом деле рады безумно, напились, наверное, от счастья, что 89-летнее (!) растение наконец ушло в мир иной, измучив всех родственников и опустошив их карманы.
«На 80-м году жизни скоропостижно скончался денщик Колчака», того самого адмирала, чьи адмиральские щеки скребла лошадиная бритва у Мандельштама в стихах уже более 60-ти лет назад.
Скоропостижно — это в 80-то лет! Когда же не скоропостижно — в 120, что ли!
Объявление: «Делаю маленькие электрические установки».
Почему маленькие делаешь, а, друг? Делай большие, как весь мир, как американцы, французы, другие люди.
Кто-то просит «даму в меховом манто вернуть пакет с марками, ошибочно взятыми 11 марта». Дама, родненькая, не отдавай ты им марки, прикупи еще конвертов, не поскупись, вложи внутрь листок бумаги с единственным моим криком «А-а-а-а-аааааааааааааааа!» и пошли это во все страны мира, на сколько марок хватит.
Хорошо убить сильного загорелого человека — твоего врага. И хорошо убить его в жаркий летний день, у соленой воды, на горячих камнях. Чтоб кровь окрасила прибрежную мелкую воду. При этом самому быть раненным ножом в бедро, и, хромая, исчезнуть в прибрежных горах. Идти, вдыхать ветер, пахнуть потом борьбы, кровью, порохом, залезть глубоко в заросли полыни да и заснуть. А проснуться — ночь, звезды, черное небо и внизу огоньки городка, куда спустившись найдешь и вино и мясо и танцующие под аккордеон пары…