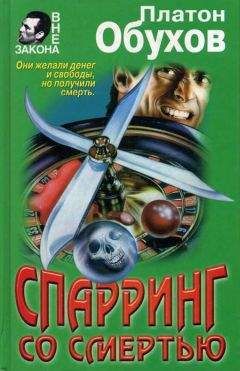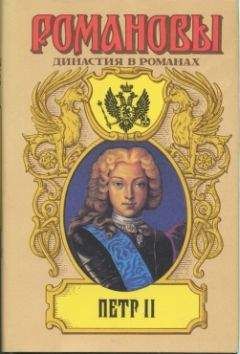Петр Проскурин - Отречение
— Коба! Прости, так долго!
— Я сказал ждать меря за дверью, — медленно, борясь со взглядом Кагановича, напомнил Сталин. — Что-нибудь случилось?
— Ничего, я не мог больше ждать. А если бы…
— Никаких «если бы» не может быть и не будет, — отрезал Сталин, все-таки заставляя Кагановича опустить глаза. — Слышишь, Лазарь, ведь это все — тысячи лет. Как ты думаешь?
— Я думаю, Коба, главное — чтобы на тысячи лет вперед люди стали счастливыми, а это все никому не нужная рухлядь, засоряющая людские души. Мы выстроим свои дворцы. Кроме того, я же говорил тебе о кознях масонов… сам Новиков консультировал проект… А этот академик Тон, главный архитектор храма…
Не дослушав, Сталин коротко усмехнулся:
— Я все помню, ничего нового… Тебя с твоим родственником Иофаном можно лишь приветствовать за смелость и принципиальность, — в голосе у хозяина появилась какая-то непривычная раздумчивость, и Каганович еще больше насторожился. — Масоны строили храмы по всей Европе, по этой причине их до сих пор никто не взрывает. Ты, кажется, из бедной еврейской семьи, Лазарь, — спросил он после паузы, — Из киевской деревни Кабаны?
Каганович понимающе улыбнулся.
— Жизнь научила меня многому… научила быть и безжалостным, если нужно революции. Зачем нам в центре Москвы ритуальный масонский знак? Что касается родственников…
— Ты сейчас полон ненависти, — сказал Сталин примиряюще. — Я, Лазарь, понимаю, твоя ненависть нужна народу и Советской власти. Одно не годится: вокруг тебя слишком много бывших бедных евреев из малороссийских деревень… Неправильный подход к большому делу. Этот храм должны уничтожить сами русские… И несмотря на масонов.
— Коба…
— Ты, кажется, не все расслышал, Лазарь из деревни Кабаны? — спросил Сталин со своей особенной улыбкой, изрытые оспой мясистые щеки потянуло к вискам.
— Что ты, Kоба! — заторопился Каганович. — Мы все учли. Здесь даже главный инженер, взрывник — Иванов Иван Павлович. А комиссар спецгруппы — сын московского купца Тулич, православный, человек проверенный, преданный делу революции… Фанатик. Свой.
— Хорошо, хорошо, — хмуро оборвал Сталин и, не оглядываясь, почему-то не решаясь оглянуться, первым двинулся к ожидавшим поодаль автомобилям; солнце уже ушло куда-то за Москву, но купола храма еще ослепительно горели, словно все больше раскаляясь в закатном огне. Сталин так и не оглянулся. Москву бесшумно накрыла короткая майская ночь с неожиданной быстрой грозой, и отблески молний острыми зигзагами отражались в куполах храма. Откуда-то из тьмы вышел и приблизился к главному входу в храм заросший до самых глаз сумасшедший монах, весь в мокром, облепившем его рванье. Он что-то бормотал, затем, опустившись на колени и низко склонившись, поцеловал гранит и долго, до завершения грозы, молился и продолжал бить поклоны. Затем и он исчез. Храм остался в беспредельном одиночестве. Никогда больше не ожили, ликуя или тревожась, его колокола, никогда больше не осветили его стен теплые огни свечей, не потревожило благозвучное славословие. Храм был обречен.
И тогда вокруг храма и в его коридорах, хранилищах, притворах, на хорах и в алтаре, на его клиросах и папертях, во всех его иконостасах и пределах началось тайное воровское движение, хотя все самое дорогое, ценное и подъемное уже было давно вывезено и навеки утрачено. Приоткрывались то одни, то другие бронзовые двери, из храма исчезла последняя драгоценная утварь, расшитые золотом, серебром и каменьями хоругви, плащаницы; выламывались из своих гнезд дорогие иконы, пропадали дары и тяжелые от золота и украшений древние книги. Наконец, за океаны уплыл распиленный главный иконостас храма, проданный за гроши; оголяясь изнутри, храм, сопротивляясь, начинал все трагичнее и пронзительнее звучать под московским небом, особенно после снятия его крестов и волоченой кровли куполов.
И тем больше взоров и сердец он продолжал притягивать к себе; и в непогоду, и в летние долгие дни на его широких ступеньках, низко спускающихся к воде, розовых от предзакатного солнца, по-прежнему собирались люди; храм, несмотря ни на что, продолжал оставаться местом паломничества, здесь любили бывать совершенно бесцельно, обретая покой, смотреть в текучие воды реки, в летящее небо над куполами, на все еще кое-где поблескивающую позолоту.
Пришла зима, в голодной, замерзающей столице пронзительно выли метели. Извозчиков уже начинали потихоньку вытеснять автомобили, все безжалостнее сносились старые купеческие районы и русский ампир аристократических кварталов; Москва уже собиралась тихонько, по-черному, без елок и радужной новогодней канители встретить подступающий Новый год, а затем и Рождество. Часто гремели глухие взрывы, в густых клубах дыма и поднятой пыли рушились целые переулки и улицы. А как-то, взглянув на близлежащие к храму Волхонку и Пречистенку, жители увидели, что храм окружен сплошным высоким забором с предохранительным козырьком наружу. Темные слухи, один зловещей другого, волной накрыли Москву, слухи переносились мгновенно, за ними не могли уследить самые рьяные службы сыска и пресечения, устрашающе разросшиеся в последние годы; вокруг забора засвистели, заплясали декабрьские вьюги; заканчивался, повитый кровью и голодом, тридцать первый, и подступал тридцать второй, еще неведомый, но уже окрещенный моровым годом, над страной заплясали апокалипсические видения.
Студент Иван Обухов, освобожденный от занятий по случаю похорон скоропостижно скончавшегося отца для устройства семейных дел, торопливо шел знакомым с детства переулком; да, теперь им с матерью пришлось уплотниться из трех, оставленных им в восемнадцатом году комнат в одну большую, бывшую гостиную. С помощью нового, многодетного соседа-слесаря Иван соорудил в гостиной невысокую переборку из фанеры, оклеив ее с двух сторон обоями, чтобы мать, сразу рухнувшая после похорон мужа, имела свой уединенный угол; Ивану было жалко мать, уютную, домашнюю женщину, жившую только мужем и сыном и теперь пытавшуюся зарабатывать вязанием теплых носков и молодежных береток, входивших по своей дешевизне и простоте изготовления в те годы в моду. Но не мать и не бытовые неурядицы едва не свалили самого Ивана, а неожиданный уход отца, во всем бывшего для сына примером; это был редкий случай, когда сын с отцом как бы представляли нечто единое в духовном плане, они любили одни и те же книги, один и тот же балет, могли часами рассуждать, спорить о воззрениях русских философов-космистов, все больше о Федорове, пытались в его фантастическом идеализме нащупать иные, еще неизвестные ныне формы существования материи и тем самым понять и оправдать, разумеется, чуждые прагматическому марксизму или приземленности ленинизму философские, истинно космические концепции бытия; не менее страстно обсуждали они русскую философскую мысль девятнадцатого века, ее раскол, наметившийся еще с переписки Гоголя, и тут само собой перекидывался мостик еще глубже — к Аввакуму и Никону, к живоносному «Слову о законе и благодати»; Тютчев почитался у них как философская космическая вершина среди всех остальных поэтов; оба они еще и еще раз убеждались в непрерывности и закономерности течения жизни, грубо разрываемой у них на глазах новейшими декретами, самонадеянно объявлявшими, что все в природе и бытие человека начинается заново, практически с нуля, что наработанная тысячелетиями культурная и философская субстанция человечества отменяется, отменяются и Бог и небо, и главным становится идея превращения человечества в одномастное стадо с генеральным планом его казарменного процветания отныне и вовеки веков. Подобное можно было бы принять за бред, за навязчивую идею неизлечимого шизофреника, если бы оно не утверждалось на глазах у всего мира огнем и кровью, невзирая на любые жертвы и разрушения…