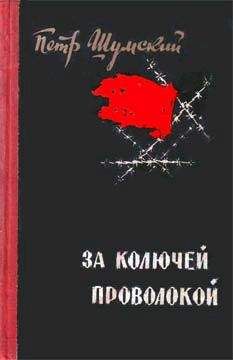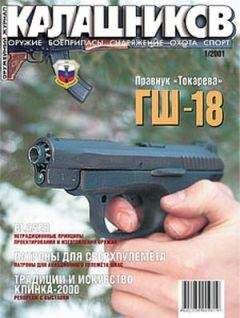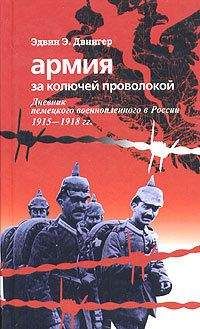Леонид Билунов - Три жизни. Роман-хроника
Вечером ее отпустили, и она сразу же связалась со мной. От волнения ей трудно было говорить, и, если бы не определитель номера, я не узнал бы голоса моей жены. Я испугался за другое.
— Что-нибудь с Лизой?
— Нет-нет, Лиза в порядке!
— Тогда не волнуйся. Повторяю раз и навсегда: я ни в чем не виноват. Все будет хорошо, ты меня знаешь. Храни тебя Бог!
Я ни на минуту не поверил в случайность этого обыска. Во Франции я ни разу не нарушил даже правил уличного движения. Паспорт и оружие лежали у меня дома без дела, и никто о них не знал. Было совершенно ясно, что следы ведут в Россию. Прево сообщили, что меня считают опасным террористом.
Я, конечно, мог остаться в Израиле и потребовать выезда семьи, задерживать которую у французов не было никаких оснований. Но это означало бы признать свою вину, подтвердить намерение нарушить французское законодательство и навсегда отрезать себе возможность въезда в эту страну, к которой я уже успел привязаться и где в это время проходила курс лечения Лиза. Желание обвинить меня шло из России, и мне представился случай доказать свою невиновность.
Я всегда шел с открытым забралом навстречу опасности, поэтому решил принять переданное мне через адвоката предложение приехать в Париж и предстать перед французским судом. Я понимал, что рискую, что при желании меня могут упрятать в тюрьму или выкинуть из Франции. Я размышлял целый день, расхаживая по бульвару Ротшильда, где к вечеру прохлада собирает утомленных жарой тель-авивских жителей и по тротуарам течет разноцветная шумная южная толпа, в которой гортанный восточный выговор перемежается певучими звуками русской речи.
Я еще раз позвонил в Париж.
— Веду переговоры с прокурором, — передал мне адвокат. — Сегодня-завтра ждите новостей.
Переговоры длились несколько дней. Прево настаивал на полном отсутствии каких бы то ни было доказательств моей террористической деятельности. «Мой клиент хочет вернуться и отдать себя в руки французского правосудия, — убеждал прокурора Прево. — Да, у него нашли личное оружие. Однако никаких специальных средств поражения, используемых террористами, у него не оказалось — ни глушителей, ни лазеров, ни дистанционных взрывателей, ни пластида. Я вас прошу только об одном: если при допросе у вас появится хотя бы малейшее сомнение в его виновности, изберите меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Дайте мне слово — как француз французу. Мы знакомы давно, и я вам доверяю. А там пускай решает суд».
Наконец прокурор согласился, и на следующее утро я был в самолете.
В полете, на высоте в десять тысяч метров голова работает особенно четко. Прикрыв глаза, я вижу картины, сменяющие друг друга. Мне представляется квартира, которую мы снимаем на бульваре Виктора Гюго, в спокойном, как здесь говорят, «буржуазном» квартале. Я вижу так ясно, как если бы при этом присутствовал, картину обыска, «шмона», ненавистного мне уже своим вторжением в чужую жизнь, выворачиванием ее наизнанку. Я вижу стеклянные двери комнат, выходящие в коридор, и чужих людей, перебирающих мои вещи (надеюсь, что осторожно!), запускающих руки в ящики стола, перекладывающих на диван детские платьица, сующие нос в белье моей жены…
На той головокружительной высоте, куда поднимаются лишь редкие облака и где почти всегда светит солнце, решения приходят сами собой, одна мысль тянет за собой другую. Передо мной картины допроса. Я вижу лица следователей, не похожие на лица тех, которых я знал в России. Меня охватывает уверенность в победе.
У трапа самолета меня встретил адвокат и трое полицейских в штатском с переводчиком.
— Господин Билунов? — спросил один, совсем молодой, в джинсах и спортивной куртке.
Я подтвердил.
— Ваши документы.
Я вынул из плаща мой русский паспорт.
— Просим вас следовать за нами, — предложил полицейский, убирая паспорт в карман.
В полиции меня допрашивали двое. Был еще присяжный переводчик. Седой кудрявый мужчина лет пятидесяти, из потомков белых эмигрантов, говорил по-русски не то что с акцентом, но с каким-то чужим выговором и не знал многих слов. Иногда мне приходилось растолковывать ему как маленькому. «Ну вот», — начинал он почти каждую фразу, и я не сразу привык к этому противоречию между едва ли не детскими оборотами речи и красными, в прожилках щеками хорошо и часто пьющего человека, в котором я не узнавал, как ни старался, ни француза, ни русского.
Французское следствие, не в пример нашему отечественному, велось куда вежливей, в тоне почти уважительном. Первый следователь, молодой полицейский в той же куртке, в которой он был на аэродроме и которую даже не снял в помещении, печатал протокол допроса на старой механической машинке, то и дело подкладывая копирку. Я думал, что в эпоху компьютеров эти ундервуды и ремингтоны давно уже заняли свои места на полках у коллекционеров древностей.
Второй, которого я увидел не сразу, усатый, словно бравый солдат, в толстом свитере с высоким воротом, был сама доброта, широкая улыбка и приветливость.
— Мы очень рады наконец познакомиться с вами! — перевел мне переводчик. У него это получалось так: «познакомить себя с вами», но ничего, мне было понятно.
— При всем моем уважении, — улыбнулся я, — не могу вам ответить такой же радостью. Перейдем к делу?
Я видел: их не интересовал мой револьвер, их интересовал я сам. Разговор все время крутился вокруг моего прошлого. Я пытался несколько раз спросить, что послужило причиной обыска.
— Здесь вопросы задаю я! — каждый раз отвечал мне следователь. Так было в Советском Союзе, так было и в нынешней России. Ничего нового.
Новое было одно — присутствие при допросе адвоката. Я узнал потом, что это введено недавно, что раньше, как и в России, адвокат появлялся на сцене только после завершения следствия.
И еще одно: когда устроили перерыв, адвокат организовал, чтобы мне принесли обед из соседнего ресторанчика — конечно же, за мой счет. Обед был неплохой, вполне неплохой.
— Мерси, Жан-Мари! — поблагодарил я адвоката. — Следующий обед за мной. Идем дальше!
Допрос продолжался до вечера. Несомненно, они хорошо подготовились. Они знали обо мне больше, чем хотели показать. Временами казалось, что они знали обо мне больше, чем я сам. Постепенно вопросы свелись к одному: участвовал ли я в террористических актах и не готовлю ли новых.
— Господа! — сказал я. — Будем говорить начистоту. Я вижу, вы хорошо знаете, с кем имеете дело. Обо мне не раз писала международная пресса. Вы знаете, как часто пресса пытается очернить известных людей в интересах тех или других конкурентов. Так неужели вы думаете, что она не использовала бы против меня такого рода факты, если бы они имелись? А насколько вам и мне известно, никакого терроризма мне никогда не шили.