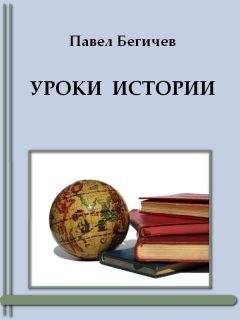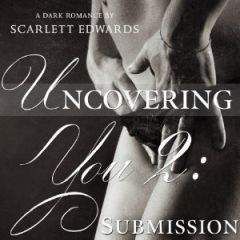Уильям Йейтс - Истории о Рыжем Ханрахане
Видение Ханрахана
В месяце июне показался Ханрахан на дороге близ Слайго, но не вошел в город, а отправился к Бен Бальбену; думы о прошлом овладели им тогда, и не было желания видеться с обычными людьми. Продвигаясь, он напевал под нос песню, пришедшую к нему в одном из снов:
Старухи — Смерти коготь
Нас не достанет там,
Где льет Любовь сиянье
Подземным городам;
Там и цветы, и фрукты
Весь год доступны нам,
Там реки светлым пивом
Бегут вдаль по полям.
Старик в волынку дует,
Лес вырос золотой,
Царицы — очи-льдинки —
Идут плясать толпой.
Сказал лисенок малый:
"Где мира боль и зло?
Мне солнышко смеется,
Луна берет в седло!"
Но рыжий лис воскликнул:
"О, не садись в седло!
Ты мчишь в подземный город,
А он — для мира зло!"
Там все в высокой страсти;
Чтоб биться веселей,
Они мечи снимают
С сверкающих ветвей;
Но кто упал, сраженный,
Вмиг восстает опять:
Как хорошо, что людям
Об этом не узнать.
Ведь… ох, крестьянин сильный,
Что знает только труд,
От зависти иссохнет,
Как треснувший сосуд.
Вот Михаил снимает
С сучка златой свой рог,
Дудит в него негромко —
Мол, выпекся пирог,
А Гавриил вернулся
С рыбалки — и рассказ
О чудесах заводит,
Зовет в дорогу нас.
Поднимет древний кубок
Серебряный, и пьет,
Пока не ляжет, пьяный,
Меж звезд на небосвод.
Вскоре Ханрахан уже карабкался на гору, оставив пение, ибо подъем был труден для него и он то и дело останавливался передохнуть и осмотреться. В одну из остановок заметил он покрытый цветками куст дикой розы, росший у развалин форта, и вспомнил те дикие розы, какие имел он обыкновение приносить Мэри Лавел и всем подругам после нее. Он сорвал ветку, с бутонами и раскрытыми цветами, и пошел, размахивая ей и напевая:
Сказал лисенок малый:
"Где мира боль и зло?
Мне солнышко смеется,
Луна берет в седло!"
Но рыжий лис воскликнул:
"О, не садись в седло!
Ты мчишь в подземный город,
А он — для мира зло!"
Все выше забирался он, миновав форт, и припоминал рассказы старинных поэтов — о любящих, встававших из могилы силой любви, воскресавших в некоем укромном месте — там ждали они суда, укрывшись от взора Бога.
Наконец, к исходу дня, он добрался до Ступеней Чужака, и улегся на краю утеса, поглядывая в долину внизу, полную серого тумана, перетекавшего от одной горы к другой горе.
И пока глядел он вниз, стало казаться ему, что туман превращается в смутные тени неких мужей и жен, и сердце сильнее забилось от трепета и восторга перед этим зрелищем. Руки его, как всегда беспокойные, стали обрывать лепестки с ветки, а сам он следил, как падают они в долину, словно парящий в воздухе отряд.
Внезапно он различил слабую музыку — музыку, несшую в себе больше смеха и больше тоски, чем любая мелодия этого мира. Воспрянуло сердце его от таких звуков, он громко рассмеялся, ибо знал — эта музыка сочинена тем, кто превзошел величием и красотой всех жителей нашего мира. Ему казалось что в падении маленькие розовые лепестки начали менять свой облик, став тем самым отрядом мужей и жен, расцвеченных во все оттенки розового и парящих в тумане. Розовый цвет превратился в многоцветье, и узрел он длинные колонны высоких и прекрасных юношей и царственных женщин, и теперь они не улетали от него, но двигались к нему, и во взорах их совмещались гордость и нежность, а лица были бледны и изнурены, словно они вечно ищут нечто великое, но горестное. Призрачные руки высунулись из тумана, стараясь схватить проходящих, но не могли, ведь ничто не способно нарушить их покоя. Перед ними и позади них, смутно и в отдалении, вырисовывались и иные формы, взлетая и падая, пропадая и приближаясь, и по бурности их движений понял Ханрахан, что то были Сиды, старые свергнутые боги; призрачные руки не тянулись к ним, неспособным грешить и служить. Прошли они, уменьшаясь с возрастанием расстояния, словно бы двигаясь к белой двери, появившейся в боку горы.
Туман расходился перед ними, будто длинные серые волны смутного моря катились по горам, но вскоре стал возвращаться, стадами безмозглых облаков, скрывая своей серостью плечи и головы прошедших. Все поднимался и поднимался туман, пока не сровнялся в вершинами горных пиков, и явились в нем новые тени, более плотные; новая процессия бреда неверными шагами через дымку, и в центре каждой фигуры было что-то светящееся. Они подходили все ближе, и Ханрахан увидел, что это также были любовники, и что вместо сердец у них были зеркала в форме сердца, и все взирали неотрывно в собственные свои лица, отражавшиеся в зеркалах возлюбленного. Они шли, медленно опускаясь вниз, и новые формы появлялись за их спинами — они двигались не парами, но одна за другой, держа друг друга за руки; он увидел, что все они были женщинами, и если их лица были превыше любой земной красоты, то тела — призрачны и безжизненны, а длинные волосы сами собой двигались и расплетались, словно в них вложено ужасное подобие жизни. Вдруг туман поднялся, скрыв их, порыв ветра сдул всех к северо-востоку, окружив Ханрахана густым белым облаком.
Ханрахан стоял, дрожа, отворачиваясь от долины, и тут увидел две смутные фигуры, стоявшие в воздухе у утеса, и одна их них, имевшая печальные глаза памятного ему нищего, заговорила с ним женским голосом: — Поговори со мной, ибо никто в мире сём или ином мире не говорил со мной уже семь сотен лет.
— Расскажи, кто они, прошедшие мимо меня? — попросил Ханрахан.
— Те, что показались первыми, — отвечала женщина, — были величайшими и славнейшими в старинные времена служителями любви — Бланад, и Дейдре, и Грания с подобными им; и многие были там, кто не завоевал громкой славы, но любил не менее сильно. И, поскольку они любили друг в друге не только цвет юности, но красоту, вечную как ночь и звезды — ночь и звезды хранят их от гибели и увядания, хотя и горе и раздоры их любовь принесла миру. Те же, кто шел следом, — продолжала она, — все еще дышащие сладким воздухом и имеющие зеркала в сердцах, не попали в песни поэтов, ибо стремились всего лишь покорить один другого, показать свою силу и красоту, сделав из этого странный род страсти. Что касается женщин с туманными телами, они не желали ни побеждать, ни любить, а хотели только быть любимыми; потому нет жизни в их телах и в их сердцах, пока не придет она с поцелуем, на миг оживляя этих женщин. Все они не ведали счастья, но я несчастнее всех — знай, что я Дервадилла, в вот он — Дермот, и именно наш грех привел норманнов в Ирландию[11]. Проклятия поколений лежат на нас, и никто не терзается больше нас. Только неверный цвет юности любили мы друг в друге, красоту, превращающуюся в прах, а не вечную Красоту. Когда умерли мы, то не обрели вечного покоя, но все войны и битвы, терзавшие Ирландию, терзали и нас непрерывно. Мы вечно скитаемся рука об руку, но я вижу Дермота как разложившийся в земле труп, и знаю — такой же он видит меня. Спрашивай же, спрашивай, ибо годы дали мудрость моему сердцу, и никто не слушал меня уже семь сотен лет.
Ужас овладел Ханраханом, он закрыл голову руками и трижды закричал, так что скот в долине внизу поднял головы, прислушиваясь, а птицы в кустах на краях гор проснулись и порскнули сквозь задрожавшие листья. Но немного ниже утеса горсть розовых листьев все еще кружила в воздухе, потому что двери в Вечность открываются и закрываются в один удар сердца.
Смерть Ханрахана
Ханрахан, никогда и нигде не задерживавшийся надолго, опять появился в деревнях у подножия Слив Эхтге — Иллетоне, Скалпе и Баллили — останавливаясь то в одном доме, то в другом, везде находя радушный прием, в честь старых воспоминаний, его учености и его стихов. В маленькой суме под плащом было несколько медных и серебряных монет, но редко приходилось ему тратить их, ибо он нуждался в немногом и вокруг никто не пожелал бы просить у него платы. Стала слабой рука, тяжело опиравшаяся на терновую палку, побледнели и ввалились щеки; но, коли было с собой немного пищи — картофель, молоко, несколько овсяных печений — он имел все, чего желал, не рассчитывая, конечно же, получить в столь диком и болотистом месте, как Слив Эхтге, еще и кувшин самогона, курящегося торфяным дымком. Он мог бродить возле большого Кинадифского леса или сидеть часами в тростниках озера Белшраг, слушая ропот горных потоков, или следить за тенями в воде заболоченных прудов, восседая так тихо, что не спугнул бы и оленя, приходящего ночью с вересковых лугов на засеянные поля. Проходил день в созерцании, и казалось, что Ханрахан принадлежит уже не к нашему миру, но к иному, незримому и туманному, чьи цвета и чья тишина превосходят все цвета и всю тишину нашего мира. Временами он мог уловить звучащую из глубин леса музыку, повторявшуюся потом в его уме как смутное воспоминание; а однажды он услышал в тишине полдня звук, подобный бряцанию многих мечей, и много часов без перерыва продолжался тот незримый бой. Ночью же гладь озера в свете восходящей луны становилась словно вратами из сверкающего серебристого камня, и в тиши смутно слышался смех или смущенное хихиканье, и чьи-то руки манили его внутрь.