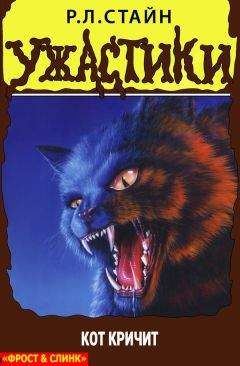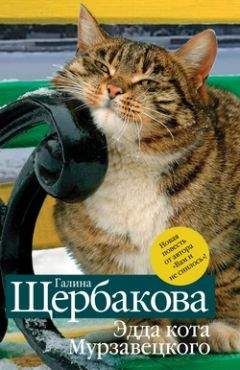Грегуар Поле - Да простятся ошибки копииста.Роман
Разбудил меня звонок в дверь: это пришел Макс. Я пошел открывать, ощущая холодок страха под ложечкой. Я был уверен, что он почуял неладное, и пытливо всматривался в него, силясь уловить в лице и повадке что-то, похожее на тень подозрения. Как часто бывает, когда совесть нечиста, я воображал, что он видит меня насквозь, что обо всем догадывается. Максу между тем было не до меня, он, как и я, был поглощен собственными заботами и в мастерской, пока я маялся, мучительно краснея, даже внимания не обратил на мольберт, таинственно прикрытый большим полотнищем. Он поблагодарил меня за превосходно выполненную реставрацию, упаковал картину и ушел восвояси.
10
После этого события развивались стремительно.
Сначала я пережил — как назвал это впоследствии Эмиль — мистический кризис. Что-то во мне сдвинулось. Взгляды людей, даже незнакомых прохожих на улице, смущали меня. Проходя мимо любой церкви, я всякий раз испытывал мучительный укол совести и невыразимую потребность войти. Между тем я отнюдь не был воспитан в христианской вере, и крестили меня скорее по привычке и для порядка. Но необоримая тяга овладевала всем моим существом, и ноги сами несли меня, стоило замаячить поблизости шпилю церковной колокольни или фасаду, благочестиво украшенному фигурами апостолов и святых, появиться в поле моего зрения. Я, однако, противился изо всех сил. Я истолковывал эту новую странность как признак безумия и не хотел поддаваться, как не поддался искушению сохранить ключ или сжечь томики “Мертвого Брюгге”.
Я понял, что дело зашло далеко, когда однажды, реставрируя голландский пейзаж XIX века, кстати, анонимный, на котором забытый художник изобразил колоколенку с крестом, вокруг которого парили три темные птицы, меня неодолимо поманило туда, в картину, — пробежать по узким улочкам до этой церкви на заднем плане и войти, как если бы она была настоящей. То же чувство я испытывал давным-давно, в музее, когда мы с дочкой “оживляли” картину Брейгеля. Как наяву, я входил в церковь, шел меж рядов скамеек черного дерева, прилепившихся, точно огромные грибы, к массивным колоннам исповедален, освещенных белым светом, который пробивался сквозь частый переплет окон и ложился слепящими бликами на темную патину больших картин над алтарем; в гулкой тишине сводов, с ледяными, словно погруженными в холодную воду кропильницы, руками, я медленно приближался к клиросу, и тут, откуда ни возьмись, из-за органа возникла согбенная старуха, вся в черном, и, откинув покров с лица, улыбнулась мне широкой улыбкой трупа.
Это был кошмар наяву, первый в моей жизни, и, как ни хотелось мне не придавать ему значения, выбросить из головы, я весь дрожал, дописывая тонкой кистью крошечный крестик на верхушке колоколенки.
Событие такого рода усугубило мои странности, и я понял, что мне надо побыть одному.
Я сказал Изабелле, что уезжаю на неделю, наплел что-то о необходимости побывать в музеях Амстердама. Сам же снял номер в гостинице на другом конце Брюсселя, дабы провести эти семь дней в одиночестве.
Чтобы изгнать свой нелепый кошмар, я должен был войти в церковь. И после четырех дней колебаний — в пятницу — наконец вошел. Церковь была пуста. Она ничуть не походила на ту, из моей грезы, и, одновременно с разочарованием, я ощутил облегчение. Я снова твердо стоял на земле, а глаза мои видели вещи в измерении обыденном, конкретном, практическом. Не было больше той бесконечности между мною и окружающим миром, и в Бога я, к счастью, снова не верил.
Я не хотел уходить из храма, не закрепив этот успех, не испив чашу до дна; еще не было окончено странное испытание, в которое меня затянуло, как в воронку, и я хотел выговориться, высказаться вслух складными, внятными фразами, чтобы завершить долгое молчание моего помраченного разума. Говорить вслух в пустой церкви казалось мне несуразным, да и мысль о том, что кто-то может войти или прятаться — за колонной, за органом? — смущала. Поэтому я преклонил колена в одной из исповедален, совершенно пустой, и там, между старой занавеской, достигавшей моих икр, и деревянной перегородкой в дырочках перед глазами, прижавшись к ней лбом до боли, я заговорил, отчетливо и ясно, и, как на духу, рассказал то, что сейчас попытался воспроизвести на бумаге.
Часть вторая
1
Я вышел из церкви с чувством, что возвращаюсь в этот мир, и, проведя рукой по лбу, нащупал много маленьких нулей: на коже отпечатались все кружочки решетки исповедальни.
В тот же вечер, в пятницу, я вернулся домой. На два дня раньше, чем собирался. Изабеллы дома не было. Оставаться одному мне не хотелось, и я позвонил Максу, но не застал его. Зато Эмиль оказался дома, делать ему было нечего, и я зазвал его к себе. У меня наверху, в мастерской, мы славно провели вечерок. Эмиль был в превосходном настроении, так же мил и обходителен, как в пору моих субботних походов на Старый рынок, когда мы с ним выпивали по рюмочке в кафе, и я радовался, оттого что кто-то проявляет ко мне интерес и с таким расположением меня выслушивает.
Я поведал ему все: про картину, Николь, мой кошмар и неделю уединения. Как в свое время, когда я рассказал ему о скандале, который учинил, увольняясь из школы, Эмиль хохотал от души. Смеясь, он уверял меня, что всякому художнику, чтобы достичь зрелости, полагается пережить мистический кризис. Я долго говорил о Николь, об оставшихся мне от нее прекрасных воспоминаниях, и он внимательно слушал.
С некоторой торжественностью я снял белое полотнище и открыл свою картину. Эмиль видел оригинал у Макса и просто зашелся от восторга. Впервые кто-то сказал мне — и в устах Эмиля это прозвучало очень убедительно, — что я гений. Гений: каждый художник ждет этого слова, надеясь, что оно вырвется однажды из сердца кого-то, кто не сможет дать его творению иной оценки, кроме этого божественного термина.
Эмиль ушел около полуночи, а я еще посидел, задумавшись, перед моей картиной, в которой я сначала нашел Николь, а потом, благодаря Николь, — себя. Наконец-то мой так долго вызревавший в безвестности гений проявился, и я видел его теперь во всей полноте. Беременная Николь на картине, Николь, родившая Изабеллу, подарила второе рождение и мне. Злые чары рассеялись, все свершилось. Моя судьба была определена.
Я лег в постель с этим распирающим грудь чувством и еще не спал, когда скрипнула, открываясь, входная дверь: Изабелла наконец вернулась. Я встал, чтобы спуститься и обнять ее, но, не дойдя до лестницы, замер: снизу донесся мужской голос. Я было подумал, что в дом забрался непрошенный гость, ночной воришка, но, не успев сообразить, что делать, услышал голос Изабеллы, отвечавшей ему.
Все стало ясно. Я затаился, прислушиваясь. Тишина, голоса, снова тишина. Они переговаривались очень спокойно. Я бесшумно лег, сам толком не понимая, хочу ли предоставить им свободу или узнать, что они будут делать, думая, что меня нет дома.
К снизошедшему на меня сегодня высокому чувству — я обрел себя, пересек важный рубеж — присоединилось другое, столь же высокое: моя Изабелла тоже пересекла рубеж, только в другом, в своем направлении. Наши пути расходились; так два корабля в океане, взяв каждый свой курс, удаляются друг от друга, не встречая иных препятствий, кроме фатально круглого земного шара, вскоре их разделит горизонт, и они потеряют друг друга из виду. В водах этого океана я и уснул.
Назавтра, в субботу, я проснулся с первыми лучами солнца. Мне подумалось, что лучше всего потихоньку выйти и открыть дверь с улицы, как будто я только сейчас вернулся. Это было шито белыми нитками — кто же возвращается из Амстердама на рассвете? — но у меня не было никакого желания прятаться в своей спальне до вечера воскресенья. Я тихонько вышел и вновь вошел, громко хлопнув входной дверью. Стук никого не разбудил, и каково же было мое удивление, когда я увидел в гостиной спящего на диване парня, очевидно, того самого, что пришел вчера с Изабеллой.
Он спал крепко, и я долго его рассматривал. Долговязый, очень худой, с кудрявыми темными волосами, для мужчины слишком пышными при такой длине. В джинсах и джинсовой рубашке. Носок на левой ноге был порван, и в дыру выглядывал палец, на удивление широкий. Его ботинки стояли в изножье дивана, там же валялась пачка сигарет рядом с полной окурков пепельницей. Рассмотрел я и лицо, крупноватый нос, приоткрытый во сне рот. На лице еще алели прыщи; лет ему, надо думать, было столько же, сколько моей Изабелле, — семнадцать.
Мне одинаково хотелось обнять его, сказать “Добро пожаловать, сынок” и схватить за шиворот, вышвырнуть пинком на улицу, запустить вслед его ботинками. Ни того ни другого я, естественно, не сделал и на цыпочках покинул гостиную.
В дальней комнате, на “Бёзендорфере”, мой зоркий глаз заметил черный кожаный саквояж на ремне, и я, недолго думая, расстегнул молнию. Это был футляр со скрипкой. На белом квадратике, пришитом к одному из кармашков, я прочел анкетные данные ночного гостя. Итак, моя Изабелла влюблена — ничего другого мне, разумеется, в голову не пришло — в юного скрипача по имени Жан-Марк Бати, проживающего по адресу улица Фландрии, 18, в Брюсселе.