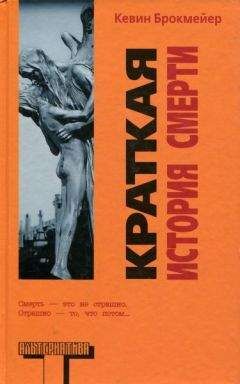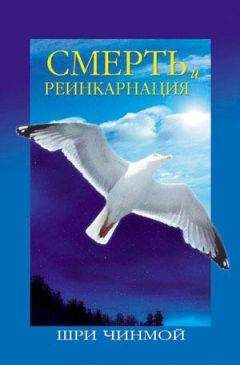Борис Фальков - Горацио (Письма О. Д. Исаева)
Волосы мои стали дыбом и зашевелились в предвкушении прелестей участковых, прелестей жандармских и дипломатических, промелькнувших перед моим не только внутренним взором. И я воскричал, как вскрикивал на горе в пустыне Пророк: «Джон, Джон! На кого ты меня оставил!» И добавил, опустив глаза: «Да минет меня чаша сия… И другая любая тоже». Короче, я мгновенно дал зарок завязать с пьянкой.
А на сцене — шпаги и кринолины, Король и Дирижёр — этот под сценой, всё замерло, будто наконец их всех сразила коса Смерти. Только одинокий голос опального Карлоса, слишком увлечённого своим пением, как тетерев — токованием, олицетворял Жизнь, приходящую к нам, увы, ненадолго. То есть — преходящую. И из зала отвечал ему также один-единственный голос, вторил ему: протяжённым, от души, стоном. Наверное — импрессарио. Дж. же Т. Реверс, настигнутый паузой, моим воплем, а потом и этим стоном уже на середине сцены, у левого локтя Короля Филиппа, грациозно притормозил, изящно обернул головку и спросил в тишине, будто нарочно для этого запланированной в партитуре… Спросил своим поставленным голосом, тоже попадая во вторые голоса к Карлосу, а то и в первые: «Шо трапылось?» И удивлённо приподнял бровки. Спросил, разумеется, по-американски, перевод мой. Что там, впрочем, переводить… Что там говорить… Что там вообще! Но…
Но, дорогой Сашук, как мы оттуда потом бежали! Нет, не стану врать, это несравнимо с тем, как мы бежали туда. И вообще, как бежали, я не помню. Только твёрдо знаю, что Бог знает, что мы бежали КАК-ТО. И всё это хранится в Его памяти надёжно. Больше этого тебе не скажет никто.
Зато в памяти моей остались другие детали. К примеру, я сам, это взгляд как бы со стороны, рвущийся из лап служителей Смерти, то есть Мельпомены, то есть Оперы, если такая Муза есть. Я рвусь и кричу, что я есть режиссёр этого замечательного спектакля, и мне предстоит его продолжить в Нью Йорке и Москве, и меня ждёт самолёт, и потому преступно меня задерживать и где? В вонючем провинциальном местечке. Другая деталь — Джон, пробегающий мимо нашей группы Лаокоона со змеями с советом: «Бежим!» Как тебе советишко, а? И дальше: «Бежим, ибо я им все прожектора отрубил». И затем парадная лестница, оперы или нет — не знаю, и мы с Джоном спускаемся по ней торжественным маршем в ногу, одетые в позаимствованные из костюмерной наряды. Не знаю, кем позаимствованные, но уверяю: не мной. И не им, он сам мне это говорил. Но и говоря это, он был одет всё же в бархатный чёрный камзол с гофрированным воротником и в тяжёлую цепь, а я — в мавританский халат и чалму. Каждому — по его вере. То есть, по убеждениям и профессии. Помню хорошо: цепь его бряцала. Я же восклицал: «Ну, а теперь, батенька, прямиком в Асторию!» И Дж. Т. соглашался, поскольку принимал выраженный мною питерский трактир Астория за испанскую провинцию Астурию.
Дальнейшего, я уверен, не знает и Бог. Ибо — зачем Ему знать такое? Это знание слишком уж печально, и порождённая им скорбь слишком велика. И знание это совершенно избыточно для Его Промысла.
Проснувшись утром в своём жутком пансионе, на девичьей постельке моей, и тоже не имея избыточных знаний, я всё же понял этот Промысел. Я понял, что мне, согласно Ему, предстоит уже купленный для меня насильственно билет на самолёт и незамедлительный полёт нах остен. И мне взгрустнулось…
Так я и сидел на койке, понурившись, пока не пришёл сияющий Дж. Т. и не разъяснил мне моё заблуждение. Я узнал от него, что пути Господни человеком не могут быть постижимы. То есть, не по Промыслу, а по Попущению Божьему у нас сейчас завтрак с сантуринским, а после завтрака очень возвышенная лекция в Эскуриале, за городом. Затем немного музыки и кое-что ещё. И никаких самолётов в программе. Я предпочёл поверить Джону, нежели своему слабому разумению. Ведь он знает актуальные испанские нравы лучше меня, да и ушедшие в прошлое — тоже лучше, ведь я — специалист по совсем иным народам. Стало быть, наша с тобой встреча, Сашук, ещё ненадолго откладывается. Видать, сантуринское и по последствиям от нашего квасного самогона отлично.
Спешу поделиться с тобою моралью происшествия: главное в жизни — оптимизм, который следует выводить из оптимальностей.
На практике это значит: разбивать огороды не так уж и опасно, если это делать в меру, ибо в меру созданные огороды никуда не ездят. Только не говори этого Бурлюку.
Вторая мораль: если жаждешь покоя — не ищи его в Европе, он в Здоймах. Впрочем, я спутал, эта мораль не для тебя, это как раз для Бурлючины.
Ты же не грусти, а жди меня с рассказами. Ещё более чудесными, нежели этот. Я, конечно, и про те напишу, но где гарантия, что ты их успеешь получить до моего возвращения?
18 мая Мадрид, Одиссей.Про донью Росарию напишу в следующем письме. Она как песня, ей отдельную строфу. А как Катерина? Делал ты ей предложение или нет? Нет, я не против. Только удивляюсь тебе… Катерина ведь тоже — песня. Со звенящей рифмой. Знаешь, какая песня? «Ой, ты, девица-душа, выйди замуж за меня!» А припев у неё: «Ой-ё-ёй…» И всё.
10. В. А. БУРЛЮКУ В ЗДОЙМЫ.
Посылаю тебе эту открытку с видом на Альгамбру, чтоб ты знал, насколько наши виды лучше. Как на будущее, так и на настоящее. Уж скоро я явлюсь, так что присмотри в колхозном стаде барашка. Да если дороже 25 р. — то не бери: значит, пастух, сволочь, омерзительно развращённый грабитель. После мне его покажешь, я с ним сам поговорю. Посчитай, пожалуйста, достаточно ли Танька бумаги переслала. Я её, скупердяйку, знаю. Если недостаточно — так ей и сообщи, бо я сразу по приезду упаду её пачкать. Имеется в виду: бумагу, не Таньку.
Скажу тебе интимно: покой только у нас дома, да и то под печкой, ещё лучше — в могиле. Доказательства? Пожалуйста… Сегодня с утра, не успел я выпасть на улицу, трах-бах! Вижу — уж и труп лежит. А вокруг битые стёкла, бензин горит, толпа шарахается, кудри туристов и туземцев, равно бараньи, развеваются, и даже баски в беретах, кажется, есть, а полиции и покоя — нету. А ведь у нас всё наоборот, не правда ли? И милиция всегда есть, и, следовательно, покой.
19 мая Мадрид. Олег.11. Е. А. СЕВЕРЦЕВОЙ В МОСКВУ.
Самым нежным тоном начинаю это письмо, самым вкрадчивым. То есть, прямым вопросом в лоб: так что же там у вас в зоосадике с Катюшей и Сашуней?
Что ж, давай объясняться. Хотелось бы, чтоб это было в последний раз.
Милочка моя, неужто ты не можешь оставить в покое кого-нибудь одного, хотя б в виде исключения, для разнообразия? Без расчётов и целей, просто по-человечески пощадить. Я не в счёт, мы с тобой телесно — близнецы, потроха у нас одинаковые. И потому я твёрдо знаю, имея такую… скажем, печень, ты не будешь играть с Сашкой благородно. У тебя нет никакого благородства в этом, как и у меня. И правил в игре — никаких. А с Сашкой Дружининым играть без правил нельзя! Его это погубит, ясно? И вообще, глупо это с твоей стороны… Кто ж разрешит тебе с ним вообще играть? Хотя этот вопрос мой, но я же на него и ответчик: НИКТО. И у меня есть средства подкрепить запрет, ты знаешь.
Говорю искренне, без игры: туда тебе нельзя. Что ты знаешь о Сашке Дружинине, о последствиях? Ничего. А я — знаю всё. Ты видишь в нём только ещё одно тело в ряду других тел. А я знаю, как далеко за пределы тела простирается его душа, и как, поэтому, лишённая оболочки в подавляющей своей части, не имеющая защиты в виде волос, кожи, мягких и костных тканей, она гола и уязвима. Ты вообще ничего о душах не знаешь, откуда ж тебе знать, как далеко она у человека простёрта? Да, и я в этом твоём незнании виноват. Я воспитал тебя, как это нужно мне. Иначе говоря — развратил. Но я воспитывал тебя для себя, только для себя, и в этом частичное моё оправдание. Ты УЖЕ не для иных, ясно? Если ты знаешь разницу между иными и другими… Тебе пусто в моё отсутствие, понимаю. Но это не причина для таких действий, могла б себе найти что-нибудь ДАЛЁКОЕ от меня. Хотя, знаю, ты именно тем и оправдываться станешь: что хотела БЛИЗКОГО. Ты станешь утверждать, что искала замену именно мне, так как я сам виновник того, что твоё чувство ко мне не утолено. А виноват я в том, что опустошаю тебя, вместо того, чтобы наполнять.
Как бы такое утверждение ни было обоснованно… Как бы я сам ни расценивал свои слабости, если хочешь, свой недостаток… Пусто? Да конечно же — пусто! И грустно, и печально! Но вот тебе на нашем с тобой языке тому объяснение, если ты ещё не выучила его наизусть: интимный акт между нами совершается не низменными частями организмов, а происходит в определённой части мозга. Он есть процесс простого направленного возбуждения части мозга, торможение которого и связано с ощущением пустоты и печали. Но это у нас с тобою, и это наше знание предмета! А у Сашки, у иного — всё иначе. Торможение в соответствующей части его мозга не печалью кончится, а смертью: он может и убить себя. У него никаких в этой области знаний, никакой подготовки, никакой защиты. И если ты с таким знанием лезешь к нему, беззащитному, то у тебя, значит, оного мозга вовсе нет. Не смеши меня.