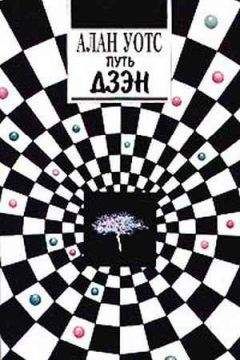Всеволод Фабричный - Эскапизм
Да, совсем забыл: к главному залу мастерской (вместе с десятком других отделений) примыкала узкая комната с высокими полками вдоль каждой стены. Полки были завалены инструментами для починки обуви, к одной из стен примыкал длинный стол–верстак и за ним обычно стоял бывший полицейский Билли, который в былые годы полицействовал и кощунствовал в Англии, а теперь почему–то работал здесь в Канаде. Я не спрашивал его, почему он переехал. Билли чинил обувь. К нему приходили клиенты. Вообще, весь этот домик был обычным складом и починка обуви составляла лишь маленькую часть довольно успешного бизнеса. И я говорю не кривя душой: я был страшно рад этой маленькой части! Почему? Потому что клиенты платили Билли деньги, и он складывал их в настоящую кассу, которая прочно стояла на столе–верстаке! Понимаете к чему я клоню? Старик Билли ведь не каждую секунду сторожил свою кассу! Ему, как живому существу, нужно было и в туалет отойти и сходить в вечно холодную столовую (на стенах висели старые плакаты с jazz–музыкантами из Нового Орлеана), чтобы поклевать еды и попить кофе. И тогда касса оказывалась без присмотра. А я могу быть очень быстрым, когда мне это необходимо. И к тому же — я люблю выпить, а магазин с выпивкой был в десяти минутах ходьбы!!! Когда я в первый раз заметил кассу — Билли как раз ее открывал (касса была старая и не нужно было вводить никаких кодов). Эротика двадцатидолларовой купюры! Ее зелено–серое тело. В меня ударило двести двадцать вольт непередаваемой радости. Мои скучные дни были спасены.
Одна только беда: я никогда не могу вовремя остановиться. Сначала брал по двадцатке в день (а когда не было двадцатки — то и по десятке), потом, в холодный, невыносимый понедельник — жадные, дрожащие пальцы утащили сорок. Потом повторили. И после этого я был позорно и бесстыдно пойман. Но пока об этом еще рано говорить.
С самого раннего утра, когда я начинал упаковку товаров со своим наркоманом — я всегда вполглаза следил за комнатой с Билли и его замечательной денежной кассой. Как только он куда–то отходил, или наоборот направлялся к нам, чтобы переговорить с начальником Бобом — я моментально шел к комнатке с кассой. Для отвода глаз я брал с собой какую–нибудь бумагу и ручку и притворялся, что изучаю ее, неся в офис. Я даже постукивал ручкой по листку и шевелил губами. Высший класс! Как только я оказывался вне поля видимости (стол с кассой закрывали полки, но если Билли исчезал по направлению к столовой — я мог увидеть его узкую спину), я кидался к столу, обходил его и наощупь (глаза должны были следить за входом и выходом из мастерской) ворошил руками в ячейках кассы. Это было схоже с лотереей. Я не знал какую купюру я вытащу, но обычно это были двадцатки или десятки. Я тайно, с девичьим стыдом, мечтал о сотне, но она так и не появилась.
После непосредственного похищения денег я молниеносно нырял под стол и там быстро прятал купюру в карман своих военных штанов. Если бы в эту минуту кто–либо (о ужас, Билли!!) зашёл в мастерскую — дела мои были бы плохи. Как бы я объяснял свое нахождение под верстаком? В английском языке есть хорошее выражение «your goose is cooked». Мой гусь был зажарен чуть позже, но пока мне везло.
Пару слов о начальнике по имени Боб. Это было тучное, неприятное создание возрастом в полсотни лет. Говорил он чрезвычайно тонким голосом, постанывая, охая и сюсюкая. Когда он смотрел на тебя — в его взгляде легко прочитывалось отвращение и ленивая неприязнь. Боб постоянно пускал газы и потом, нарочито ахая, просил извинения у окружающих. Он не был агрессивным или злым. Он был просто немножечко невыносим. Меня он иногда называл «сынок».
Он любил задавать мне сразу десяток заданий, потом забывал их и давал новый десяток (подмети, позвони курьеру, принеси со второго этажа краску, разлей ацетон по бутылочкам, вымой туалет, встреть грузовик), и все, что бы я ни делал, было «нет, нет, нет — совсем не так». Я спасался водкой и кассой старого Билли. С наркоманом мы мало разговаривали, потому что Боб следил за нами пуще глаза.
Только лишь когда заканчивалась работа, и мы, туманным вечером (в тот год на земле канадской возникали удивительные, морозные туманы) выходили из ортопедички, он рассказывал мне о своих бедах. Ему не везло. То знакомый обчистит квартиру, то подруга забеременеет. Позже, года через два я видел его как–то в автобусе. На мое приветствие он не ответил. Как будто бы не узнал. Я стоял радом с украдкой на него смотрел. Видно было, что ему очень солоно. Он был бледен как клиническо–биологический мертвец. Кадык ходил вверх и вниз, с каждым подскакиванием автобуса он подавлял рвоту.
Все деньги, которые я выуживал из кассы — я в этот же день тратил на алкоголь. Виски, водка, ром, пиво. В обеденный перерыв я как сумасшедший бежал в магазин и обратно. Не буду вдаваться в подробности. Дело в том, что у меня есть мини–повесть «Муравьиный Лев» в которой детально описано — как я тороплюсь в винный магазин, чтобы напиться в рабочие часы (другая работа, другое время) Повторяться я не хочу.
Обычно я не пил ничего сразу, а тщательно прятал назавтра. Кое–что я прятал прямо в мастерской, а кое–что на улице, чтобы завтра утром по пути на работу как следует освежиться. Я люблю пить по утрам. Это самое оно. Не верьте в слизь вечерних посиделок с ебаными стакашками и задушевными разговорами. Пейте утром, на улице, пейте в одиночестве. Тогда алкоголь совсем другой и действует по–другому.
Утром, ранним декабрьским утром, я ехал на работу на электричке SkyTrain. Спускался вниз по лестнице и, миновав безлюдный сквер с лавками, выходил на финишную прямую, которая, как я уже говорил, заканчивалась моей мастерской. Я делал две остановки: одна около заводской стены, где в кустах были свалены старые автомобильные шины гигантской величины. Внутри одной из шин покоилась спрятанная накануне небольшая бутылка…. ну, скажем Jack Daniels. Я садился на шины, обозревая железную дорогу и заросшее болото вдали, и пил половину бутылки. Моя вторая остановка была, около маленькой фабрики, где работали китайцы. У них во дворе стоял массивный мусорный бак, и я, прислонившись к нему доканчивал свой JD. Туман, туман, музыка в ушах, теплый удар в живот, а скоро Новый Год — мой любимый праздник, и сегодня я, может быть, утащу еще двадцатку… Я тоже умею радоваться. Точнее — умел. Сейчас я на социальном пособии, хожу по психиатрам, мне ничего нельзя, я болен и иногда болен так сильно, что сладострастно гадаю — не составить ли мне свое нехитрое завещание. Но я всегда выздоравливаю, выкарабкиваюсь и снова становлюсь неосторожным и насмешливым.
Последняя остановка — это моя ортопедичка. Пока что пришел только один человек (Билли). Я кладу свой обед в холодильник в столовой и прохожу в темные чертоги склада и мастерской. Билли пока что ковыряется со своим велосипедом, так что на складе я один. Жутко холодно. Влезаю по лестнице под потолок. Наощупь включаю обогреватель–фен. Обогреватель, вращаясь, раздувает горячий воздух. Несколько минут я стою на лестнице, закрыв глаза, и греюсь. Затем лихо спускаюсь по лестнице и, миновав главную упаковочную комнату, все также во тьме кромешной направляюсь в дальний закуток на северном крыле склада, где, как блестящие моржи, лежат огромные рулоны кожи. Там, в одной из коробок у меня спрятана вторая бутылка (на этот раз водка Polar Ice и высокая банка пива). Пью пиво в таинственной темноте. Водку пока не трогаю. Включаю везде свет. Начальник Боб уже где–то близко — я слышу его овечий голос. Иду в туалет — вода там замерзла за ночь и с мочеиспусканием нужно будет подождать. В туалете — маленькое окошечко без стекла и в него залетают снежинки. Становлюсь на цыпочки, выглядываю из него. Видно мало: стена и бок прикорнувшего на ночь грузовика. Делаю глоток водки и все. Я готов к труду.
Вы спросите: почему ж ты, дурак, прятал водку около каких–то шин и в коробках на складе. Почему не нес домой и там ее не пил? Я уже как–то отвечал, но отвечу еще. Я живу с родителями. Я не хочу их огорчать и к тому же боюсь их сюрреального гнева. Дома я тоже пью (и немало), но если бы я каждый день являлся домой с новыми (неизвестно на какие шиши купленными) бутылками — моя жизнь стала бы невыносимой. И жизнь родителей тоже. Я не живу один, потому что не умею. Если бы я жил один — я бы низвергся в хаос. Мне просто некого было бы любить и бояться. А когда тебе некого любить и бояться — можно уничтожить себя (или других) за считанные минуты.
Кроме денег я еще много чего утащил со своего «обувного». Ваксой для ботинок и язычком пользуюсь и до сих пор. Шнурки — в ассортименте. Но главной моей страстью — было похищение обуви. Четыре пары тапок, четыре пары ботинок. Дорогих. По сто долларов пара и выше. Не беда, что ботинки были ортопедические. И к ортопедическим можно привыкнуть, если ты не в ладах с головой.
Тапки выносились со склада просто: я засовывал их под просторный балахон и потом втягивал живот, чтобы не было заметно вздутия. С ботинками дело обстояло сложнее. Это было целое приключение. Сначала я завертывал их в бумагу и клал в мусорный бак, потом перед обедом — я выносил их с мусором. Во время обеда я выходил на улицу, обходил мастерскую с другой стороны (в моей первой повести «Самоед» есть описание трансформации дохлой крысы — это как в тех местах), забирал сверток из мусорного бака и относил его на старые, заросшие бурьяном рельсы возле болота чуть поодаль. Там, прикрытый сухой прошлогодней травой, сверток ожидал меня до конца рабочего дня. После работы, в темноте, я подбирал его и нес домой.