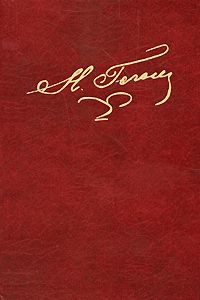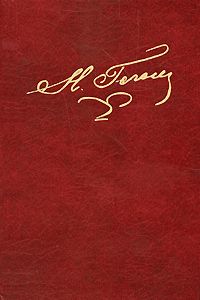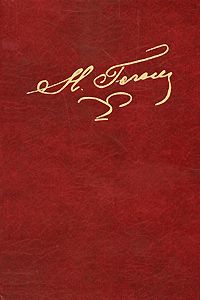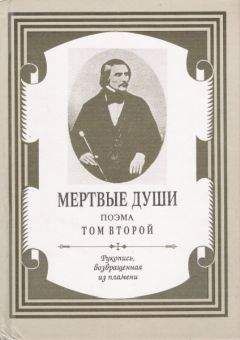Владимир Березин - Кролик, или Вечер накануне Ивана Купалы
Когда мы спрыгнули с подножки, закат уже был окрашен – так, будто в облаках невидимые повара мешали кетчуп с майонезом.
X
Слово о расстановке шпал и правильном выборе дороги.
Утих дальний звук поезда. Чувствовалось, что по этой заброшенной ветке поезда ходили редко. Рельсы лежали ржавые, и сквозь них проросла густая мертвая трава. Побрели мы дальше.
– Что я, волк, что ли? – сказал Рудаков, вспомнив наши утренние разговоры.
И тут же кто-то завыл за лесом.
– Да уж, ты не волк, пожалуй, – успокоил его Синдерюшкин. – По крайней мере, пока.
Пришлось снова идти по шпалам.
– Ну ты, профессор, – сказал мстительный Рудаков, – а вот скажи, отчего такое расстояние между шпалами?
Мы-то, конечно, знали, что это расстояние выбрано специально, чтобы такие лоботрясы, как мы, не ходили по шпалам и не подвергали свою жизнь опасности, а тащились вдали от поездов – в глухой траве под откосом.
– А по двести шпал на километр – вот и вся формула, – ответил
Гольденмауэр хмуро.
– Тьфу, – плюнул Рудаков точно в рельсу. – Никакого понимания в человеке нету. Чистый немец.
Вдруг все остановились. Рудаков ткнулся в спину Синдерюшкина, я – в спину Рудакова, а Гольденмауэр со своей спутницей вовсе сбили нас с ног.
– Ну, дальше я не знаю. – Синдерюшкин снова уселся на свою рыболовную урну и закурил. – Теперь ваше слово, товарищ Маузер. То есть теперь ты, Рудаков, поведешь. Ты, кстати, помнишь-то, как идти?
– Чего ж не помнить, – ответил Рудаков, но как-то без желаемой нами твердости в голосе. – Сначала до соснового леса, потом мимо кладбища
– к развилке. А там близко. Там, на повороте, стоит колесный трактор. Налево повернем по дороге – там и будет Заманихино.
Мы спустились с насыпи и двинулись среди высокой травы по низине. С откоса на нас лился туман – там за день, видно, была наварена целая кастрюля этого тумана.
Шуршали хвощи, какие-то зонтичные и трубчатые окружали нас.
– Самое время сбора трав, – сказал мне в спину Гольденмауэр, собственно, ни к кому не обращаясь. – Самое время папорть искать.
Ибо сказано: “Есть трава черная папорть; растет в лесах около болот, в мокрых местах, в лугах, ростом в аршин и выше стебель, а на стебле маленькие листочки, и с испода большие листы. А цветет она накануне
Иванова дня в полночь. Тот цвет очень надобен, если кто хочет богатым и мудрым быть. А брать тот цвет не просто – с надобностями, и, очертясь, кругом говорить: “Талан Божий, се суд твой, да воскреснет Бог!”.
Нехорошо он это сказал, как зомби прямо какой. Так в иностранных фильмах говорят чревовещатели.
Я был благодарен мосластой, которая, видимо, ткнула Леню кулаком в бок, и он заткнулся.
Травы вокруг было много, трава окружала нас, и я сам с ужасом понял, что неведомый голос нашептывает мне – бери траву золотуху, бери- ой, растет золотуха на борах да на Раменских местах, листиками в пядь, ни дать ни взять, а суровца не бери, не бери, не ищи его при водах, береги природу, а возьми-ка шам, что листочки язычком, как в капусте с чесноком. Ой да плакун-трава ворожейная, а вот адамова голова, что власти полова, а вот тебе девясил, что на любовь пригласил. Эй, позырь – разрыв-трава, что замкам потрава, воровская слава. Или тут, за бугорком – ревака, что спасет в море во всяком.
Земля мати, шептали голоса, благослови мя травы братии, и трава мне мати!
– Но, – и тут в ухо мне, никчемному человеку, старшему лесопильщику, да еще и бывшему, кто-то забормотал: – Тебе-то другое, не коланхоэ, не карлик-мандрагора, найдешь ты споро, свой клад и будешь рад – коли отличишь вещее слово, выйдя как работник на субботник – папортник или папоротник?
Тут мои спутники начали ругаться, и наваждение рассеялось. Мы долго шли в этом травном лесу, среди тумана, мы не заметили, как снова уперлись в насыпь. Тут и сам Рудаков удивился.
– Что за чертовщина, я помню, тут проход должен быть.
Проход нашелся. Черный провал, видный только вблизи, вел как раз под насыпь.
– Да, труба, – веско высказался Синдерюшкин. В любом из смыслов он был прав. Правильно, значит, по-рабочему, осветил положение.
Но делать было нечего, и мы вслед за Рудаковым ступили в черноту.
С бетонного потолка рушились вниз огромные капли. Шаги отдавались гулко, было темно и неприятно, и вообще место напоминало унылый подземный переход на окраине, где сейчас вот выйдут из-за угла и безнадежно спросят спички или зажигалку.
Мы шли молча, перестав обходить лужи на полу. В углах подозрительно чавкало. Мы пыхтели, и пыхтение множилось, отражаясь от стен.
Пыхтение наше усиливалось и усиливалось в трубе, и уже казалось, что нас в два раза больше.
Мы лезли по этой трубе, стукаясь макушками и плечами, и я всерьез начал бояться, что сейчас под ногами обнаружатся незамеченные рельсы секретного метро, загугукает что-то, заревет, ударит светом и навстречу нам явится какой-нибудь тайный поезд, приписанный к обороне столицы.
Скоро нам стало казаться, что труба давно изогнулась и ведет вдоль железной дороги, а не поперек.
Но внезапно стены расступились, и Рудаков, а вслед за ним и остальные оказались в сумеречном лесу.
Мы оглянулись на железнодорожную насыпь. Огромной горой она возвышалась над нами, закрывая небо.
Дорога поднималась выше, круто забирая в сторону. Я предложил отдохнуть, но Рудаков как-то странно посмотрел на меня.
– Давайте пойдем лучше. Тут чудное место – тут дождь никогда не идет.
– То есть как? – Гольденмауэр не поверил.
– А вот так. Не идет, и все. Везде дождь, а тут – нету. Да и вообще неласковое место, кладбище к тому же.
Дорога начала спускаться вниз – к речке. У речки вспыхивали огоньки папирос – я понял, что если нас не спросят прикурить, то явно потребуют десять копеек.
XI
Слово о ночных огнях на реке, правильном урочном пении и о том, что делает с человеком пища, богатая фосфором.
Речка приблизилась, и мы поняли, что не сигареты мы видели издалека.
Это по речке плыли венки со свечками. Их было немного – четыре или пять, но каждый венок плыл по-своему: один кружился, другой шел галсами, третий выполнял поворот “все вдруг”.
– Ну и дела, – сказал Синдерюшкин. – Не стал бы я в такой речке рыбу ловить.
Это, ясное дело, была для него крайняя оценка водоема.
Порядком умывшись росой, мы двинулись вдоль речки – венки куда-то подевались, да и, честно говоря, не красили они здешних мест.
Снова кто-то натянул на тропу туманное одеяло. Мы вступили в него решительно и самоотверженно, как в партию. Вдруг кто-то дунул нам в затылок – обернулись – никого. Только ухнуло, пробежалось рядом, протопало невидимыми ножками. Задышало да и сгинуло.
– Ты хто?.. – спросили мы нетвердым голосом. Все спросили, хором- кроме Синдерюшкина.
– Это Лесной Косолапый Кот, – серьезно сказал Синдерюшкин.
Тогда Рудаков вытащил невесть откуда взявшуюся куриную ногу и швырнул в пространство. Нога исчезла, но и в затылок нам больше никто не дул. Только вывалился из-за леса огромный самолет и прошел над нами, задевая брюхом верхушки деревьев.
Там где посуше, в подлеске, росло множество ягод – огромные земляничины катились в стороны. Штанины от них обагрились – есть земляничины было страшно, да никому и не пришло это в голову. Трава светилась под ногами от светляков. Но и светляки казались нам какими-то монстрами.
Туман стянуло с дороги, и мы вышли к мостику.
У мостика сидела девушка.
Сначала мы решили, что она голая, – ан нет, было на ней какое-то платье – из тех, что светятся фиолетовым светом в разных ночных клубах. Рядом сидели два человека в шляпах с пчелиными сетками.
Где-то я их видел, но не помнил, где.
Да и это стало неважно, потому что девушка запела:
Лапти старые уйдуть,
А к нам новые придуть.
Беда старая уйдеть,
А к нам новая придеть.
Мы прибавили шагу, чтобы пройти мимо странной троицы как можно быстрее. Понятно, что именно они и пускали по реке водоплавающие свечи. Но только мы поравнялись с этими ночными людьми, как они запели все вместе – тихо, но как-то довольно злобно:
Еще что кому до нас,
Когда праздничек у нас!
Завтра праздничек у нас -
Иванов день!
Уж как все люди капустку
Заламывали,
Уж как я ли молода,
В огороде была.
Уж как я за кочан, а кочан закричал,
Уж как я кочан ломить,
А кочан в борозду валить:
“Хоть бороздушка узенька -
Уляжемся!
Хоть и ночушка маленька -
Понаебаемся!”.
Последние стихи они подхватили задорно, и под конец все трое неприлично хрюкнули. Я, проходя мимо, заглянул в лицо девушке и отшатнулся. Лет ей было, наверное, девяносто – морщины покрывали щеки, на лбу была бородавка, нос торчал крючком – но что всего удивительнее, весь он, от одной ноздри до другой, был покрыт многочисленными кольцами пирсинга.
– Поле, мертвое поле, я твой жухлый колосок, – отчетливо пропела она, глядя мне прямо в глаза.