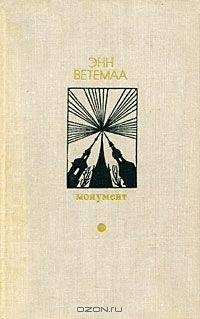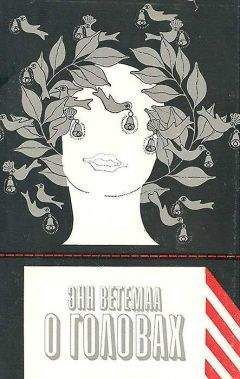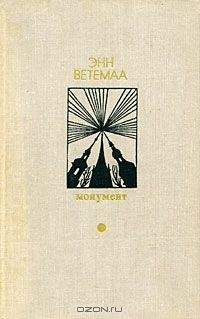Энн Ветемаа - Снежный ком
— А Прийт — из Пылва. Его ты, пожалуй, не знаешь. У него молоко на губах не обсохло: и года не работает.
У альбиноса Прийта лицо было и впрямь молочного цвета, рыжие волосы в сочетании с тонкими усиками придавали физиономии хитрое, лисье выражение, которое дополняли пронзительно-голубые, бегающие глазки.
— Молодой-то молодой, а вчера сам Паэранд до небес его возносил. На нас, стариков, уже ноль внимания. Парень еще сделает карьеру дай бог, помяни мое слово. Ну да, ты вчера приехал, так и не слыхал.
— Ладно тебе, Пеэтер, — произнес Прийт неожиданно гулким, как из бочки, басом и — вжик! — кончиком языка прошелся по ниточке усов. Калев разглядывал удачливого человека. Уж очень заметно отличался он от спутников: костюм спортивного покроя сидел как влитой, в облике — ни малейшего налета провинциальности, который роднил Пеэтера, Эльмара и — как знать — может, даже Калева.
Подошли к зданию лектория. Здесь, значит, и проходило это мероприятие. Но какое? Скорее всего, какой-нибудь семинар лекторов-пропагандистов? Калев числится в библиотеке, потому, наверно, и не получил приглашения. Хотя обычно в таких случаях его командировали в Таллин… А может, не вспомнили о нем потому, что и так уже направили сюда? Снова зашевелилось смутное ночное беспокойство.
— Разом входить не будем — слишком заметно, — решил Пеэтер Линд и лукаво подмигнул. — Эльмар, Прийт, вы идите вперед, а мы чуть погодя следом.
Хваленый Прийт насмешливо пожал плечами, но возражать не стал. На миг Калев Пилль ощутил острую зависть: еще бы парню не играть в самоуверенность — сам Паэранд отметил.
Стеклянная дверь бесшумно закрылась за Эльмаром и Принтом, а они, двое ветеранов, остались топтаться во дворе, как школяры. И снова Калеву стало не по себе.
Его словно отодвинули в сторону, бросили. Там, наверху, коллеги Калева слушают лекции, шумят в коридорах и буфетах. Большинство давно знает друг друга в лицо: они ведь вроде студентов-заочников — время от времени съезжаются. У каждого свои симпатии и антипатии, кое у кого даже «невесты». А он, Калев Пилль, на этот раз отлучен. Вспомнилась давнишняя премиальная поездка в Москву. Они гуськом вошли в метро. Калев как джентльмен — самым последним. Ему, наверное, попался погнутый пятак — никелированные воротца вдруг защелкнулись, прихватив его за полу плаща. Калев попал в беду, а спутникам его было невдомек: знакомые затылки удалялись на эскалаторе. С русским языком у Калева тогда еще были трудности, но в конце концов дежурный сжалился и пропустил его сбоку. Искрасневшийся, несчастный, Калев поспешил за остальными, догнал, но тут его снова прищемило — вагонными дверьми… Вокруг ухмылялись: не умеет, бедняга, двигаться в большом городе — и сторонились его. Такое же чувство неприкасаемого возникло у него и сейчас.
— Пошли и мы. — Пеэтер подтолкнул его к дверям. Использует как ширму, рассердился Калев и тут же растревожился еще больше: а ну как потребуют пропуск или пригласительный, бывают разные, и с отрывным контролем…
Но все было тихо. У гардероба, правда, стоял какой-то столик, там, надо думать, регистрировали делегатов, но девушка, занятая шлифовкой ногтей, и глазом не повела в их сторону.
— Ты уже зарегистрировался? — приторным тенорком спросил Пеэтер, и Калеву захотелось двинуть ему: если девушка услышала, подзовет к своему столу, а там быстро выяснится, что человека по имени Калев Пилль сюда не звали.
— Успеется, успеется, — пробормотал он и, спускаясь с лестницы, ускорил шаги. В эту минуту наверху хлопнула дверь, и по нарастающему гулу голосов Калев понял, что начался перерыв.
Все потекли в буфет, кто — чинно, благородно, кто — вприпрыжку, обгоняя общий поток. Калев и Пеэтер пошли туда же. Пеэтер взял бутылку лимонаду и бутерброд с икрой. А Калев, который никак не мог освоиться, решился и взял пиво. Обычно пиво пили более молодые и самоуверенные, люди постарше предпочитали лимонад, давая понять, что нужный обществу человек должен в первую голову печься о своем здоровье, да и, в конце концов, не в том мы возрасте, когда… Калев заметил, что отличившийся Прийт взял целых пять бутылок «Жигулевского» и, побрякивая ими, гордо продефилировал посредине буфетной. Всем своим поведением он словно заявлял: вот я, человек, который что хочет, то и делает. Ему-то что, подумал Калев Пилль.
Мужчины в летах потягивали морс и лимонад. В своих темных костюмах они казались состарившимися мальчиками, и, как мальчики, они прятали неловкость за шуточками, не всегда остроумными, ко неизменно вызывающими солидарный смех. Калев посочувствовал им, да и самому себе — ведь он тоже почти ветеран. Надежная старая гвардия — то ли не сумели, то ли душа не лежала подыскать работенку подоходнее: так жизнь и прошла в бумагах, анкетах, бюллетенях, за полночь писались праздничные речи. Втайне многие лелеют надежду спокойно дотянуть до пенсии — только бы ничего не стряслось! А ведь когда-то были орлами! Конечно, в своих кабинетах, красных уголках или бог знает в каких комитетах они и сейчас куда храбрее, чем здесь, на подчиненных иной раз и кулаком по столу могут трахнуть. Сгоряча, может, и трахнут, но потом остынут и опять заведут рассказы, что вот в последний раз в Таллине на семинаре кончали, как водится, небольшим междусобойчиком и сам товарищ Икс был вначале, а товарищ Игрек — до конца, здорово принимает, он и держится дай бог каждому, парень жох!.. Женам и детишкам они всякий раз везут полные сетки бананов или апельсинов: каждый — примерный семьянин. Калеву Пиллю знакомы все их радости и горести: сам четверть века принадлежал к этой братии. Когда колхозы только-только становились на ноги и на трудодень давали немного, они со своим твердым заработком были людьми обеспеченными, а теперь многие приносят в дом меньше дражайшей половины, особенно если та работает скотницей. Конечно, людей воспитывать куда проще, горько усмехаются мужья.
— Видишь того лысого в красном галстуке? Ну, вон, красный до ушей? — Пеэтер тронул Калева за локоть. — Его, бедолагу, утром так чихвостили, только пыль летела…
У самого Пеэтера Линда с шевелюрой тоже было не густо, скорее, наоборот, но это «лысого» он произнес со злорадным наслаждением.
— Ишь, краснеет, как помидор… Паэранд всыпал ему по первое число. — Тон его стал серьезным и осуждающим: — И поделом! Нельзя же так выполнять директивы: у этого типа на весь район одна-единственная настольная газета на одной-единственной ферме. А наглядная агитация — на нуле.
— Кто он такой?
— Альберт Розаокс… Блеск фамилия, да?
Бедняга Розаокс рдел и впрямь как розан и сам, должно быть, подозревал об этом. Однако чтобы не стушеваться, он выбрал самый неверный путь: разыгрывал олимпийское спокойствие, делал вид, что это «только пыль летела», ему до лампочки. Тоже мне делов!.. Пухленький, уже немолодой человек замысловато пританцовывал, хихикал, отхлебывал пиво. Он без умолку, брызжа слюной, размахивал руками, выкрикивал что-то игривое в адрес женщин за соседним столом. Ох, как он старался предстать перед всеми греховодником и весельчаком! Из кожи вон лез! А веяло от него истеричной лихорадочностью, и женщины, едва слушая, отделывались от него наипрохладнейшими улыбками. И только подливали масла в огонь. Этому человеку все подливало масла в огонь. Вот он зашептал что-то ближайшим соседям. Калев Пилль, сочувственно следивший за ним, готов был поспорить, что какой-то анекдот, и, по всей видимости, скабрезный.
На женских лицах проступила сберегаемая для особых случаев суровость, и все свое внимание и душевность они обратили на молодцеватого Прийта, который лихо прогуливался от столика к столику. Женщины вспыхивали от его шуток, они журили Прийта, грозя пальчиком, но их угрозы были явным одобрением, явным «да» и ожиданием.
Все это видел, конечно, и несчастный Альберт Розаокс, видел и становился еще более жалким. Сейчас эти женщины абсолютно не нравились Калеву. Было в них какое-то заскорузлое перестоявшееся пионерство, профессиональное бодрячество и педагогическая непреклонность — эта неаппетитная солянка отдавала плесенью. Но Калев Пилль, как человек прежде всего участливый, попытался мысленно оправдать и их. Когда-то они были славные комсомолочки, читали по праздникам правильные стишки, пошли на комсомольскую работу — руководили, зажигали, учили. Но время летит, и глядь — им уже по сорок. Никогда у них не было времени подумать о себе: только у одной из четырех поблескивало обручальное кольцо.
Но сочувствовать им было труднее, чем откровенно несчастному Розаоксу, труднее именно из-за их подчеркнуто скромного достоинства, которое сквозило и в движениях, и в одежде; труднее из-за проспектов и планов, которые они благоговейно держали в руках наподобие школьниц с табелями: разве можно положить такие важные документы на залитый пивом столик? Но больше всего мешало эдакое их светофорное отношение: Розаоксу — запрещающий красный, расхваленному Прийту — вседозволяющий зеленый. Калев Пилль, по всей вероятности, удостоился бы у них желтого. А когда мимо проходил какой-нибудь работник министерства, менялась даже их осанка, светофор всеми тремя глазами изливал зеленый, цвет надежды (хотя где-то зеленый считался и цветом забвения?).