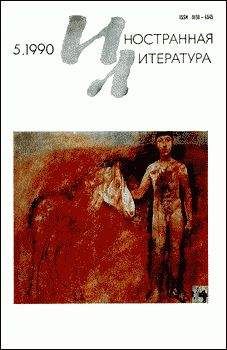Лев Тимофеев - Поминки
Когда отпевание закончилось, Митник так и остался стоять в углу незамеченным, и вышел из церкви уже после всех и чуть помедлил на паперти, подождал, пока организуется и тронется процессия. Он решил, что поедет позади всех на машине и объявится уже на кладбище. От церкви до кладбища надо было пройти чуть ли не через весь городишко
(тоже подлые советские глупости: деревянную кладбищенскую церковку когда-то разломали и сожгли одной из первых), и Митник подумал, что ему лучше не уставать: все-таки в тот же день предстоял тяжелый обратный путь до Москвы.
По немощеной, пыльной боковой улочке похоронная процессия растянулась метров на сто. Впереди на грузовике с откинутыми бортами везли открытый гроб и пять-шесть венков. За грузовиком шли учителя и учащиеся старших классов северопрыжской школы-интерната. Хотя они и не имели к Пробродину прямого отношения, районные власти распорядились снять старшеклассников с уроков и бросить на мероприятие: все-таки хоронили известного человека, имевшего звание
Заслуженного учителя России (спасибо, не приказали из Старобукреева за тридцать километров детей тащить). Следом на новенькой, блестящей черным блеском “Волге”, выделенной районной администрацией, везли
Галю, пробродинских сестер и на переднем сидении – старобукреевского игумена, державшего на коленях свой высокий монашеский клобук. Далее шла общая толпа, которую возглавляли шесть-семь руководящих районных чиновников. Может, они и расселись бы по своим машинам, но, видимо, было неловко: пешком шел сам батюшка, отец Дмитрий Бортко со своей дружиной, – а уж он-то был постарше любого из чиновников… В толпе шли и родственники, и друзья. Даже едучи сзади, Митник угадал со спины длинную фигуру внука Жорика. Но Алексея Пробродина или кого-то из его детей на похоронах видно не было…
На кладбище Митник первым делом подошел к Гале, обнял ее и прижал к груди. Ноги ее не держали, и он помог ей опуститься на скамеечку, несколько лет назад поставленную Федором напротив Ванюшиной могилы.
А теперь вот и его, Федора, могила была выкопана здесь же… Кто-то из родственниц или знакомых сел рядом с Галей, чтобы, обняв, держать ее, не дать упасть, – кажется, та пожилая учительница, от которой
Митник зажег свечку в церкви…
На гражданской панихиде Митнику как самому высокопоставленному из друзей покойного дали слово первому. Он сказал что-то высокопарное
(что-то о том, что такие великие личности, как Пробродин, – народное достояние России) и был недоволен собой. После него говорили еще человек пять или шесть, но он слушал плохо, потому что ему уже надо было ехать, а люди говорили долго и, как ему казалось, бестолково.
Наконец, панихида закончилась, и все выстроились в очередь к гробу – прощаться. И опять Митник был среди первых: он чуть постоял перед гробом (в гробу лежал уже совсем чужой Федор: черты лица его оплыли и сделались совершенно неузнаваемы) и, склонившись, прикоснулся губами – не к восковому лбу трупа, а к лежавшему на лбу бумажному венчику…
Как только гроб опустили в могилу, Митник среди первых бросил свою горсть земли, быстро попрощался с районным начальством, подошел к
Гале, чтобы сказать, что придет на сорок дней, – и уехал.
3
Так вот сразу, на вскидку, Митник, конечно, не помнил всех книг на полках у Пробродина. В разговоре с букинистом, номер которого он набрал еще раз вечером накануне отъезда, условились, что, уже приехав на место, Митник позвонит непосредственно из пробродинского кабинета и конкретно назовет, что там есть интересного. Тогда и будет ясно, стоит ли букинисту ехать за тридевять земель или речь идет о десятке-двух наименований, и Митник сам может легко привезти все в багажнике или на заднем сиденье своей “тойоты”.
Он заранее решил, что себе возьмет только “Брокгауза” (то есть, что значит, “возьмет”, – купит, конечно, у Гали по цене, которую назовет букинист). И не себе домой возьмет, а в подарок Гудинскому, который во время последней избирательной кампании здорово помог Митнику и деньгами, и организационно (“Северо-Восток” Гудинского был самым влиятельным банком в здешнем избирательном округе, и без этой поддержки Митник вряд ли выиграл бы). Гудинский же как раз недавно купил особняк в подмосковном Переделкине – неподалеку от музея
Пастернака, что для него, интеллектуала, было важно, и он это с удовольствием подчеркивал: “Теперь, – говорил он, – я читаю переделкинский цикл, словно сам его написал: всё у меня перед окнами. Как там? “И полдень с берега крутого закинул облако в пруды, как переметы рыболова”… Пожалуйста, вот они пруды, вот оно облако”…
Что ж, благородные, золотом тесненные корешки “Брокгауза”, пожалуй, удачно впишутся в строгий интерьер его кабинета (хотя, надо признаться, кроме эстетического в них никакого смысла нет: весь
“Брокгауз” давно висит в Интернете).
Словом, Митник теперь ехал на сороковины с одной определенной целью: разобраться с книгами и прочим раритетом и выяснить, как со всем этим помочь Гале. Причем времени у него было в обрез: уже завтра к вечеру он должен вернуться в Москву (на Первом канале запись программы Познера “Времена”), – и совершенно нельзя было понять, что, когда и как он успеет. Сколько времени продлится застолье
(будет, поди, человек двадцать, и все, конечно, с долгими-долгими речами, – и ведь никого не прервешь)? Книги книгами, но кто, когда и как должен распорядиться рукописями, и не придется ли все-таки ему заняться и этим? Да и вообще, в каком состоянии сама Галя?..
Он выехал из Москвы еще затемно и подъехал к Старобукрееву в полдень. День был не по-ноябрьски теплый, и яркое солнце сияло в семи больших и малых куполах монастырских белоснежных церквей.
Митник, не считая, знал, что куполов именно семь. Это число упоминалось еще в тщательно разработанном проекте восстановления полуразрушенного монастыря – “уникального памятника архитектуры XVII века”. Финансирование проекта Пробродин лет пять упорно пробивал в советских инстанциях. И пробил, – к слову, не без помощи Митника, который организовал важные публикации о делах сельского энтузиаста
Пробродина и его замыслах – и в “Правде”, и в “Известиях”. Тогда, в середине семидесятых, такие публикации в центральных газетах
(большие корреспонденции, в полполосы каждая) были равноценны спущенной вниз директиве ЦК партии.
В монастыре с конца двадцатых размещалась центральная усадьба совхоза: в игуменском флигеле – контора, в Никольском храме – зернохранилище, в Казанской церкви – механические мастерские. Под стенами с внешней стороны – скотный двор. И, чтобы освободить монастырь, надо было для всех этих совхозных служб заново отстроить помещения где-то в другом месте. Директор совхоза и районное начальство были не против, но дело казалось если и не глухо безнадежным, то уж точно – бесконечным. “Ничего, – смеялся
Пробродин, – мне, как тому евангельскому старцу, не дано умереть, не увидев семь крестов на семи куполах”. Что ж, угадал: увидел…
На лужайке перед большим пробродинским домом пожилой шофер, много лет работавший в школе и в музее (как его зовут, Митник забыл, а может быть, никогда и не знал), копался в моторе старого “уазика”, изрядно походившего по здешним дорогам, раздрызганного и ржавого.
Мизансцена на лужайке с шофером и “уазиком” была настолько хорошо знакома, что Митник, словно со стороны глядя, каким-то особым зрением увидел, как из дома выходит сам Пробродин, как шофер захлопывает капот машины и они куда-то уезжают… Он даже головой потряс, чтобы сбросить наваждение.
Оказалось, что ни Гали, ни родственников нет на месте. Все еще с утра уехали в Прыж на кладбище, где игумен Кирилл должен отслужить панихиду на могиле, – и пока не вернулись. “На четырех машинах поехали”, – уважительно сказал шофер.
В доме пахло жареными котлетами. Четыре или пять сотрудниц музея, переговариваясь вполголоса, готовили на кухне поминальные блюда и уже начали носить тарелки в зал (самая большая комната в доме – метров двадцать квадратных) и накрывать на стол. Митник из коридора громко поздоровался со всеми вообще (он и не разглядывал особенно, кто там есть кто) и сказал, что поднимется наверх, в кабинет Федора
Филимоновича, и чтобы ему дали знать, когда вернется Галина
Васильевна. Ему никто не ответил, но он знал, что его услышали.
В просторном залитом солнцем кабинете все, видимо, осталось так, как было тем утром, когда Федор Пробродин, собравшись ехать в Прыж, в последний раз спустился вниз – и больше сюда уже не вернулся. На диване была не прибрана постель: мятая простыня, подушка, сохранившая оттиск головы, откинутое одеяло. На широком письменном столе – раскрытая книга. (“На рассохшейся скамейке – Старший Плиний.
Дрозд щебечет в шевелюре кипариса”, – сам себе продекламировал
Митник.) Исписанные листки бумаги разложены в порядке, понятном только самому хозяину. Листок посредине стола был до половины заполнен черным бисером пробродинского почерка, и рядом лежала перьевая авторучка.