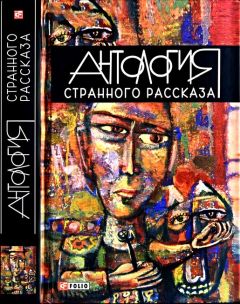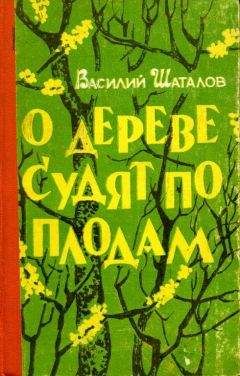Лижия Теллес - Рука на плече
— Украсть жениха у двоюродной сестры куда хуже, чем ладью, — прошептала Эдуарда, беря меня за руку.
Мы отошли к окну. Глаза у нее были фиолетовые, как пунш. Я опустила веки, Эдуарда, мне так хотелось объяснить тебе все, но у меня духу не хватало, а теперь слушай: он сказал, что вы разошлись, что у вас все кончено.
— Он это сказал?
— Я не виновата, Эдуарда, когда у нас все началось, я была уверена, что вы порвали, что больше не любите друг друга, я не думала, что предаю тебя!
— Да?
Я увидела звезды совсем близко. И близко пахнуло ароматом ночи, этот запах вернул мне ощущение целостности, я стала настоящей. Я посмотрела Эдуарде в лицо, первый раз я посмотрела ей прямо в лицо. Надо ли говорить? Правда надо? Мы глядели друг на друга, и мои мысли переливались по моей руке в ее руку. Да, я была ревнива, не уверена в себе, хотела как-то утвердиться, а вышло из этого только разочарование и муки. Родриго (о боже, Родриго!) был моей любимой любовью, пусть это была любовь суматошная, внезапная, безумная, но любовь. Я думала, что смогу освободиться от тебя, что я придумала выгодный обмен, но я плохо рассчитала, довольно быстро я поняла: предательство губит любовь. Ты была всюду, Эдуарда, — на улице, в ресторане, в кино, в постели. Однажды мне почудилось твое дыхание. Это становилось невыносимым, и как-то раз, когда он зашел в кабинку послушать пластинку, я не выдержала и сбежала — мы были в магазине, покупали пластинки, я хочу поставить эту, сказал он, входя в застекленную кабинку, подожди меня. Я отошла к витрине, словно что-то разглядывала, и решилась — сбежала, опустив голову, не глядя по сторонам. Эдуарда, скажи, что веришь мне, скажи!
Ее потемневшие глаза постепенно светлели. Теперь все хорошо, Лаура, мы снова вместе, казалось, говорила она. Теперь мы навсегда вместе — она сжала мне руку. Но больше печалиться мне не дала. Эдуарда взяла кусок бисквита, который принесла Ифижения, поднесла к моему рту: ешь, ты очень худая, тебе надо побольше есть, и не грусти. Я вдруг почувствовала себя совсем никчемным человеком: ладью у дедушки украла, сказала я, но тут же поперхнулась бисквитом. Эдуарда расхохоталась так же, как на кукольном чае, когда я проглотила чайничек для заварки. Ее браслет — золотое кольцо — зацепился за мое платье, и она безуспешно попыталась освободить его, ладно, пусть тебе останется в знак нашего нового союза, ты ведь всегда любила такие символы. Браслет, уже отцепленный от платья, долго не снимался с руки. Это было цельное кольцо, надевалось прямо на руку, а теперь не снимается, потолстела я, что ли? Я потолстела от счастья, я очень счастлива с моим немцем, чудесно, правда? Огонь камина отблескивал в ее лице, как в люстре, как в зеркале: я так люблю, что мне хочется кричать! Она обхватила меня и закружила в танце, мы хохотали как сумасшедшие, пока не оказались возле рояля, и Эдуарда передала меня бабушке — посиди здесь, я пойду выручать моего любимого, а то дедушка опять засадит его за шахматы. Вдруг она стала серьезной и сжала мне руку.
— Скоро появится Родриго.
— Кто? — спросила бабушка. Она подвинулась, чтобы я села рядом с ней. — Кто появится?
— Родриго, — ответила Ду́ша, мягко всплеснула руками и опустилась на подушку. Она наклонилась завязать ленту на туфле, и я увидела малыша на ковре. Он был в пижаме и играл разноцветными кубиками. Был ли он здесь, когда я пришла?
— Ты похудела, Лауринья, — посетовала бабушка, изучая меня любящим, но придирчивым взглядом. Не слишком ли я накрашена? Куда лучше было бы обходиться без косметики, как Эдуарда. Почему я так дрожу? Ты совсем замерзла, детка, выпей чаю, сказала бабушка, протягивая мне чашку. Это из-за него ты так нервничаешь? Из-за Родриго? Имя она произнесла совсем тихо.
Ее аккуратно уложенные волосы отливали сиреневым, и я подумала о фиалках. Она старалась успокоить меня так же, как успокаивала в детстве, приходя пожелать мне спокойной ночи, она говорила, что никаких привидений нет, все это выдумки, спи спокойно. Родриго? Но он же вылечился, не беспокойся, было ухудшение, и очень серьезное, я не скрываю, но все прошло. Все прошло. Вчера, например, мы с ним беседовали, он собирается снова приступить к занятиям, строит разные планы, сказала она, но я увидела в ее глазах (или в своих?) какую-то затаенную мысль. На миг мне почудилось, что вся она соткана из влажной сиренево-голубой, как ее волосы, пряжи. Погоди, не уходи! — попросила я, а может, и крикнула. В камине огонь постепенно затухал.
— Иногда страх возвращается, — сказала я.
— Но чего же ты боишься, дорогая моя? Ты не влюблена? Тогда тебе надо влюбиться, — сказала она, поглядывая на мои руки. — Заветного колечка нет? И никого нет? А вот Эдуарда, она же твоего возраста (бабушка задумалась, вертя в руках пенсне), разве вы не одних лет? Я всегда думала, что вы ровесницы, Ивон была беременна, когда твоя мать ждала тебя… (Она посчитала по пальцам, но сбилась.) Я хотела сказать, что Эдуарда так внезапно влюбилась, вообще все это как снег на голову. Они поженятся в декабре, чудесно, правда?
Голос ее звучал уже по-иному; она рассказывала подробности: после свадьбы они поедут в Германию, его родители живут там в городке с забавным названием Ульм, а после визита к родителям они собираются путешествовать по всей Европе. Ду́ша спит и видит, как бы поехать с ними, она мечтает учиться балету в Париже, проказница! Только не нравится мне, что они собираются лететь самолетом, что за страсть у молодых к этим самолетам? Насколько лучше пароход, по морю так приятно путешествовать, я до сих пор помню, как мы с дедушкой плыли в Италию на итальянском корабле, сколько было всяких игр, затей, праздников! А лучше всего было сидеть на палубе в шезлонге, прикрыв ноги пледом, и читать какой-нибудь роман Конан Дойла. Или просто смотреть на море.
— Он еще думает обо мне?
Бабушка помедлила. Потом сложила, как книгу, раскрытые ладони. Кто? Родриго? Да, думает, но не так, как прежде, без боли, без упреков, он очень изменился после попытки к самоубийству. Если бы он мог куда-нибудь поехать, попутешествовать по морю на корабле вроде того, итальянского, нет, она не помнит названия, смешно, правда? Но чаек не забыла. И ветер тоже.
— Где он достал револьвер?
Слово «револьвер» ударило ее в грудь, как чайка. Или рыба. Она испуганно стряхнула крошки бисквита с платья. Вытерла уголком носового платка каплю чая, упавшую на клавиши. Револьвер? Откуда же ей знать? Он был всегда таким скрытным мальчиком, выдумал себе какой-то особенный мир и никого туда не пускал.
— Он меня звал туда, но я отказалась.
Ду́ша оперлась на локти и подползла по ковру к самый моим туфлям.
— Какая прелесть эти золотые каблуки! — сказала она знаком попросив меня нагнуться, и шепнула на ухо: — Пуля прошла совсем рядом с сердцем.
— Они попадут туда в самые морозы. Если бы они плыли пароходом, они успели бы привыкнуть к перемене климата, — вздохнула бабушка. Она резко обернулась к Ду́ше, которая показывала на рояль — хочу танцевать, играй, играй! Подожди, детка, если тебе отдых ни к чему, то мне все-таки надо передохнуть.
Я посмотрела на тяжелые шторы. На горку, которая, по-моему, потускнела под тонким слоем пыли. Время вас не коснулось, сказала я. Вы все такие же. Такие же.
— Рояль изменился, — откликнулась бабушка, улыбаясь и беря звучный аккорд. — Я его настроила, помнишь, какой он раньше был? А ты ничего не знаешь, потому что не навещаешь меня. Я болела, выздоравливала, снова болела, а ты ни разу даже не позвонила. Я могла бы умереть, а ты бы и не узнала, потому что ни разу не подняла трубку, чтобы справиться, как поживает бабушка.
— Бабушка, дорогая, ты же знаешь, как я вас всех люблю. Я и правда надолго пропадала, но я же люблю вас.
— Я знаю, Лауринья. Но мне бы хотелось доказательств, это для меня так много значит.
Ду́ша скроила рожицу:
— Нехорошо, Лаура! Красная Шапочка пошла через лес, где жил волк, только для того, чтобы отнести своей бабушке пирог. А бабушка ее всего-навсего простудилась, ведь правда, простудилась, и все? — Ду́ша встала на пуанты, собираясь танцевать, и улыбнулась: — Она не отвезла Ифижению в Апаресиду, не отдала мне зеркало, украла у дедушки ладью, у Эдуарды — жениха и не навещала тебя.
— Танцуй, танцуй, Ду́ша, — сказала бабушка и заиграла какую-то рваную, диссонирующую мелодию. — Начинай!
— А кроме того, она еще оказалась femme fatale[1], — скороговоркой добавила Ду́ша и представила, будто берет пистолет, наводит его себе в грудь и спускает курок. Пум! (Она покачнулась, уронила воображаемый пистолет, вытянулась на подушках, прижала правую руку к груди, левой слабо взмахнула в прощальном жесте.) — «Я покончу с собой в марте, если ты будешь и впредь холодна», — продекламировала она задыхаясь. Потом вскочила: — Почему именно в марте? Кто его знает, но если поэт уверен, что в марте, пусть так и будет… (Она отбежала, соединив руки над головой.) В марте или в апреле?..