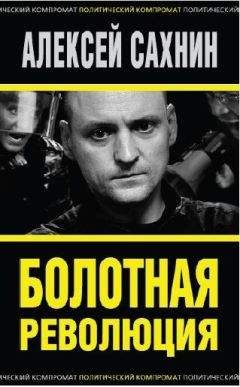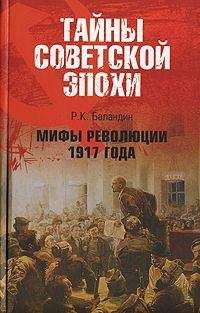Генри Миллер - Замри, как колибри. Новеллы
Исходя из всего сказанного, американский литератор может задаться вопросом, не повезет ли ему за границей больше, чем на родине. На этот вопрос я всегда отвечаю утвердительно. Да! Да, если даже он потерпит фиаско. Даже в случае проигрыша ему будет обеспечено общение с другими писателями, другими родственными душами в обстановке у нас неведомой — в обстановке, спешу добавить, несомненно более беспощадной, более ужасающей, более плодотворной и гораздо более реальной. Как и здесь, он будет ощущать каждодневный риск умереть голодной смертью, однако он не всегда будет себя чувствовать как рыба, вытащенная из воды, как животное в зоопарке или как псих, сбежавший из лечебницы. Он не умрет посмешищем или чудовищем, если только не обладает необычайной одаренностью. Естественно, чем он одареннее, тем суровее будет его судьба. Нам хорошо известно, что мир не создан для гения. Он, тем не менее, может успокоиться на том, что при определенном таланте в конечном счете получит хлеб, а не камни. Лишь в очень немногих странах в нашем цивилизованном мире существует некое подобие поддержки или защиты талантливого человека. Россия, как, разумеется, и Америка, неплохо обеспечивает тех, кто строго следует заданным установкам.
В результате величайшими писателями — причем наиболее плодовитыми! — по-прежнему остаются французы. Многие французские писатели, безусловно, как и многие французские живописцы, скульпторы и музыканты, вообще не французы. То обстоятельство, что Франция включила в свой кровоток такое разнообразие инородных элементов, делает ей честь. С другой стороны, любопытно то, что некоторые из наиболее выдающихся французских писателей создают впечатление нефранцузов. Я имею в виду, что они отличаются, крайне отличаются от своих сородичей. Здесь, в Америке, быть “другим” почти равносильно тому, чтобы быть изменником. Несмотря на то, что наши издатели будут рассказывать вам, что они в вечном поиске “оригинальных” писателей, ничто не может быть дальше от истины. На самом деле они хотят того же самого, лишь в несколько завуалированном виде. Меньше всего, безусловно, они стремятся найти еще одного Фолкнера, еще одного Мелвилла, еще одного Торо, еще одного Уитмена. Никому не ведомо, чего хочет публика. Даже издателям.
По сути, каждый великий художник устремляется к концу. Великий художник не просто революционер в стиле, форме или содержании, он бунтует против общества, из которого вышел. Чего он настойчиво требует, гласно или негласно, — это нового курса, другими словами свободы. Его представления о свободе — это жизнь, проживаемая в мире фантазии. Такова истинная традиция, поддерживающая искусство: она заключается в вере, в убежденности, что путь искусства — путь из пустыни. Одним словом, это образ жизни. Никогда в истории человечества на долю подобного типа людей не выпадало легкой участи. Для представителя этой породы враг, не снаружи, а внутри. Такой человек вечный изгой, отверженный, нарушитель общественного порядка, бунтарь и изменник. И вечный “растлитель молодежи”. Всякий раз, когда публика теряет веру в художника, это вина художника. Это его вина, ибо означает: он изверился в своем высшем назначении. Другими словами, утратил веру в себя. Ибо кому, как не художнику, дано возвысить человека, выпустить на волю воображение? Остальные — священник, учитель, праведник, политик, воин — не дают нам сойти с тропы истории. Держат нас прикованными к скале, так что наши сердца становятся добычей стервятников. Только художнику достает мужества противостоять толпе; он — непризнанный “герой нашего времени” и всех времен.
Ныне мы пребываем в самом разгаре того периода истории (начавшегося с Французской революции), который Нострадамус определил как “нашествие черни”. Все указывает на катастрофу. Вновь и вновь мировые лидеры демонстрируют свою неспособность решать терзающие нас проблемы. Точнее, говорить следует об “одной” проблеме, ибо суть ее, как и прежде, сводится к одному: как нам жить на этой земле в мире и согласии. Как бы серьезно и остро ни было сегодняшнее положение дел, оно, возможно, не уникально в долгой и по большей части неведомой истории человечества. Никто не знает, сколько раз в этой истории наступала тьма. Все, что нам доподлинно известно, это что творческий дух не поддается полному уничтожению. Человек способен разрешить эту извечную проблему, да и другие, гораздо более трудные, тоже. Художники — беру на себя смелость так их называть, — которые вели и вдохновляли род человеческий, гиганты духа, никогда не дававшие пламени угаснуть, всегда прибегали к языку, в котором, в силу символики, таился аромат вечности. “Царство мое не от мира сего”. Вот символические слова, прозвучавшие из уст величайшего творца, когда-либо жившего на земле. Если художник не воспринимает эти слова как свои собственные, он просто дилетант, словоблуд, а не творец. Что объясняет, вероятно, почему самые великие личности написали столь ничтожно мало или вообще не написали ничего.
“Что хуже всего? — пишет Р. Х. Блайт. — Грех, страдание, смерть. Если только мы можем подняться на этих волнах, вместо того чтобы уйти под них, мы будем свободны. Свободны от чего? Свободны от иллюзии, что мы не свободны. Наши иллюзии, что (сейчас) мы не свободны, это наши надежды. Наши надежды на лучший удел, нежели тот, который нам выпал, — не только причина печали, но сама печаль”. ("Дзэн в английской литературе и восточной классике”. Токио, Хокусейдо Пресс, 1948.)
Не будем кривить душой: что хуже всего для художника? Что ему заткнут рот? Сомневаюсь. Тот, кто поистине представляет собой силу, является глашатаем Бога, будет услышан, даже если не разожмет губ. Но какой возникнет резонанс, какой мастерский ход, если вдруг художники всего мира по взаимному согласию разом смолкнут! Конечно, это невообразимая ситуация! Говоря “художник”, увы, подразумеваешь “эго”. Однако постарайтесь задуматься на секунду, какое смятение, неразбериха и путаница возникнут в результате этого. Подумайте, каково будет услышать рев толпы, когда не слышно ничего, кроме рева толпы! Без всякого сомнения, мир разобьется вдребезги.
Европейцу знакомы мощь и ярость толпы; он переживал это не единожды. Америка никогда не знала революции или великой чумы. Америке до сих пор удавалось удерживать толпу, заставляя ее верить, что она получает то, что хочет. Как говорит Честертон: “В этом народе живет некий прекрасный идеал, но живет своевольно”. Ведь последнюю мировую войну, невыразимо гадкую, развязали отнюдь не варвары; ее вели передовые страны мира, “развитые страны”. Во всяком случае, убежденно считавшие себя таковыми. Так что же, в этом начало и конец культуры? Неужели она достигает своего апогея в этом бесславном крестовом походе во имя взаимного уничтожения? Куда подевалась могущественная роль искусства? Разве художники тоже убивают друг друга? Разумеется, да. За исключением немногих, они тоже, во времена паники, идут по стопам толпы, часто поддерживая и подстрекая беспомощных марионеток, руководящих бойней. Признавая это, я, однако, твердо верю, что ни мировой порядок, ни мировая гармония не возможны до тех пор, пока художник не возьмет на себя бремя лидерства. Я имею в виду, что художник в человеке должен выйти на первый план, взять верх над патриотом, воителем, дипломатом, фанатичным идеалистом, обманутым революционером. Человеку предстоит восстать не против богов (боги в нем самом, только он этого не знает), но против его собственного заурядного, мелкого, вульгарного духа. Он должен набраться смелости взглянуть на мир как на поле своей собственной божественной игры, а не как на арену враждующих “я”. Иными словами, он должен возвыситься над своими предрассудками. Он должен отбросить свои костыли. Художник обладает большей, лучшей, нежели прочие, способностью к освобождению. Он лучше других знает, что то, к чему он стремится, достижимо, что то, что он воображает, истинно и реально, единственно истинно, единственно реально. Его функция — пробудить в своих собратьях любыми средствами, какие есть в его распоряжении, это неоспоримое видение. И не надо утверждать, что у него нет для этого средств. Подлинный художник изобретет средства для того, чтобы его послание стало ясным аудитории. Неважно, как мрачно выглядит картина, все преимущества — на его стороне. Он — единственный из смертных, кто действительно суверенен, при условии, что он отдает самому себе отчет в том, что источник его мощи и вдохновения божественен и доступен всем.
Человеку удалось проявить себя мыслителем; ему удалось проявить себя творцом; ему удалось проявить себя мечтателем. Но ему еще предстоит доказать (прежде всего самому себе), что он — до конца человек. Ибо какой смысл во всех великих религиях, во всех философиях, во всех науках, во всех искусствах, какой смысл в благородных идеалах (в свое время они перебывали у каждого народа), коль скоро они не служат во благо человеку? Где человек? Какое место занял он в ряду своих неисчислимых созданий? Если в делах человеческих нет Бога, сколько в них от самого человека?