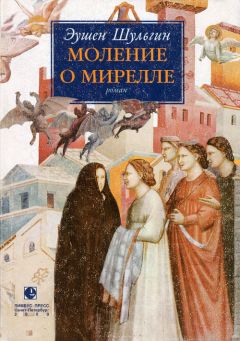Эушен Шульгин - Моление о Мирелле
Я прослушал нижние этажи, парк. Всюду топали ноги, слышались голоса, очень далеко, но мне все равно казалось, что они окружают меня. Я снова был в павильоне! А он тут расселся и чепурится!
Мои рыжие волосы полыхали в темноте коридора, жаркими языками лизали голову, щеки пылали, веснушки вгрызлись в кожу. Смотреть в зеркало не было никакой нужды, в глазах все тоже неплохо отражается. «Рыжий, веснушчатый». «Одно лицо с отцом». Но отец мощный, как стена, брови кустятся, точно усы у флорентийцев, а голос прячется в сумрачном тайнике глубоко в груди. Волосы Малыша вьются мелкими, золотистыми завитками, волосы херувимчика, неодолимый соблазн для пальцев всех взрослых.
Я сунул руку в выпиравший из окна брусок света, погонял пальцами пылинки. Свет был теплый, как будто держишь руку под краном. Я прижал пальцы к стене, растопыренную ладонь, обе, уткнулся лбом. Стена тоже теплая. Я повернулся и прижался к ней спиной. Сжал веки. И услышал голос синьора Касадео:
— Федерико, viene qui, viene, Федерико!
Я улыбнулся. Голос такой мягкий, и это новое, певучее имя. Оно ожило, оно перестало быть скучным, норвежским Фредрик, скрипевшим, как ключ в замочной скважине, — Фредрик, щелчок. Фе-де-ри-ко. Все нараспашку! Малыш улыбался мне со своей жердочки.
Синьора Касадео изо всех сил махала мне рукой: заходи-заходи, шляпка наперстка на каждом пальце.
— Un bacio Federico! — распорядилась она.
Вкус пудры похож на вкус пыли. Пыль от пластинок меха, от попугаев, пыльный коридор, пыль от отцовых бумажек, пропыленные музеи, запылившиеся развалины. Тусклое зимнее солнце в маленьком квадратном окошке глубоко в нише, и в клубах света белесые кудри Малыша.
Прошло много времени, прежде чем мама позвала нас. Голос, процеженный сквозь темные воронки лестничных маршей, изгибы и изломы коридоров, казался слабым. И синьора Касадео крикнула в открытую дверь:
— Они здесь, синьора, оба!
Шаги мамы ближе и ближе.
— Так вот где вы прячетесь!
— Ничего страшного, синьора. Входите, входите. Я так люблю, когда они у меня. Такое приятное общество. Я их понемножку учу итальянскому. Ваш младшенький прямо на лету схватывает, он скоро лучше Федерико заговорит, вылитый Петрарка. Какие у вас славные ребята, синьора, ангелы, чистые ангелы!
Ангелы переглянулись.
Касадео скинула свое шитье на пол и жестом предложила маме освободившийся стул. Мама села. Осторожно, точно прислушиваясь, не разваливается ли под ней стул. Синьора Касадео тут же завозилась со спиртовкой в углу.
— Чашечку кофе, да?
— О, не беспокойтесь.
— Что вы, что вы, это пара минут, я сама всегда пью кофе в это время.
В доказательство она поднесла к глазам часы, болтавшиеся на длинной цепочке на шее, и вздохнула.
— Всему свое время, — она улыбнулась маме, — иначе день пролетает, а ничего не сделано. И муж всегда задерживается — правда, ему далеко до работы… и если он пропустит стаканчик-другой по дороге домой… я его понимаю. — Она бросила быстрый взгляд на нас с братом. — Лучше поговорим о чем-нибудь другом. Хотите печенья?
— Нет, нет, я на секундочку, — заторопилась мама. — Дочка одна внизу. Она нездорова, опять животик.
Говоря все это, она устроилась в кресле и с удовольствием взяла предложенное ей печенье. Так мы и знали! А еще через минуту они доберутся до повара Джуглио, такой неисправимый грязнуля! Мы с Малышом переглянулись и выскользнули из комнаты. Никто из них этого не заметил.
Идти в парк или нет? — вот в чем вопрос. Собственно, выбора не было. Маленькая лежит одна, если сейчас пойти к ней, то надо с ней возиться, а когда мы потом соберемся уходить, она устроит такой концерт, что сразу прибежит мама и опять будет говорить, что мы плохо обращаемся с сестрой и вообще думаем только о себе. Нет, конечно, можно пойти в кухню к Джуглио. Он профессиональный скандалист. Тощая фитюлька с белой щетиной по всему лицу, красными, слезящимися глазами и носом, печально нависающим надо ртом с черными гнилушками зубов. Одет неизменно в заношенные до прозрачности черные брюки и грязную-прегрязную майку. Стоит кому-нибудь из взрослых сказать ему слово, как он тут же выходит из себя. О чем бы ни шла речь, он начинал вопить дурным, сиплым голосом, ругаться и выкрикивать непотребные слова, которые мы на лету подхватывали, греметь сковородами и кастрюлями и пинать кошек, которыми кухня, единственное в доме теплое место, была нашпигована.
Загвоздка с Джуглио была не в этом. С нами он был всегда весел и приветлив. Он не только помог нам освоить ряд необходимых слов и выражений, не только продемонстрировал нам свои порнографические картинки и свою маленькую, сморщенную гордость. Он предлагал нам даже, по его определению, «взрослые утехи». Загвоздка в его тошнотворном запахе. Смесь пота и чеснока, сразу будто двумя пальцами прижимающая корень языка. Поэтому все его прозрачные намеки отвергались нами как отвратительные и мы старались держаться от него на некотором расстоянии. Однако все это никак не ставило под сомнение состоятельности Джуглио как повара, и когда он изредка бывал в хорошем настроении — например, в прошлый четверг, когда раздатчица Лаура поскользнулась на лестнице и слегка проломила себе голову, — то такого случая ради он готовил бесподобные блюда.
— Джуглио — истинный художник, — часто говорил отец, с довольным видом прислушиваясь к неканоническому итальянскому, громыхавшему в окрестностях кухни. — У него творческий темперамент.
Это всегда приходило мне на ум, когда отец показывал мне полотна Джотто, Симоне Мартини или братьев Лоренцетти. Я так живо представлял их себе!
Нет, спускаться к Джуглио как-то не хотелось, а остальных постояльцев еще не было дома. Если не считать синьора Коппи, который наверняка лежал на диване, в подтяжках, курил одну сигаретку «Националь» за другой, сыпал пеплом и не сводил застывшего взгляда с потолка.
Синьор Коппи очень противный. Длинный и черный. Я любил вечером поделиться с Малышом своими предположениями о том, чем этот синьор занимался во время войны, и мы оба так пугались, что засыпали в одной кровати. Мимо его двери мы всегда проскакивали бегом, и на топот наших бегущих ног из недр его комнаты всегда раздавался приглушенный рык, будто оголодавший хищник в зоопарке требовал есть.
На площадке перед бассейном пусто и безлюдно. Мы посмотрели налево, посмотрели направо — ни души.
— Сбегай за мячиком, — велел я Малышу. — Постучим немного.
— Мяч — это древнейший символ дружбы, это наше стремление раскрыться, разделить радость с другим, — заливал отец, вручая нам огненно-красный пластмассовый шар. Надо же, а я думал, что футбол — грязная, грубая и глупая игра. — Когда Одиссей очнулся на берегу моря в царстве фесков, его разбудили подружки Навсикеи. Принцесса как раз играла с ними в мяч. — Взгляд отца стал отрешенным, он задумчиво вертел мячик в руках. — Бросая мяч другому человеку, ты предлагаешь ему дружбу. Игра в мяч в высшей степени социальна, открыта, это приглашение к сосуществованию, содействию, содружеству.
— Ты когда в последний раз ходил на футбол? — с улыбкой спросила мама, оторвавшись от стирки носков; она взбила такую высокую пену, что руки утопали в ней по локоть.
Отец не поддался на провокацию.
— Не есть ли вообще все игры — особый механизм реагирования? — задал он вопрос самому себе.
Когда отец впадал в такое состояние, бесполезно было пытаться перебить его или достучаться до него. Он ждал одобрения или возражений лишь одного человека — того, который жил в его голове и решал все: выбросить ли последнюю статью в корзину или сложить в архив, уезжать нам или необязательно. Иногда мне казалось, что это «человек в папе» поет, пока отец работает. Вообще-то я уже перерос такие сказочки, сам знаю, но как приятно верить понарошке, так спокойно, сладко.
Блестящий мяч выпрыгивает в окно. Но ветер перехватывает его в полете и кидает прямо в финиковую пальму у террасы. Она вцепляется в него своими длинными, хрящеватыми пальцами. Перекинула пару раз с ветки, а потом схватила и не отдала. Лицо Малыша возникло на секунду в окне, и он помчался вниз, далеко обгоняя звук собственных шагов. Я сердито спросил, что он собирается делать теперь, но он только хохотал, вертелся волчком, якобы искал палку, которой, как мы оба знали, здесь не было.
Чуть поодаль, под большими эвкалиптами, с той стороны лужайки, возникли трое мальчишек. Они стояли неподвижно и наблюдали за нами. Я медленно спустился с террасы и подошел к пальме. Лазить по пальмам безумно больно, это я знал, потому что уже как-то пробовал. Но я решительно обхватил ствол, задрал одну ногу, вцепился пальцами в шершавую чешую и подтянулся. Dio mio, как больно! Я выждал, дал телу время хорошенько прочувствовать, как это больно. Потом нашел опору для второй ноги, подтянулся и подполз еще чуть-чуть. Ствол вгрызался в ладони, раздирал ноги сквозь шорты. Навернулись слезы. Глаза лезли из орбит. Руки и ноги истончались слой за слоем, одежда трещала и рвалась. Выше, среди сучков от недавно отсохших веток, было еще хуже. Я взглянул вверх, на розетку листьев надо мной. Там был мяч. Недостижимо. Я же не муха, я не могу ползать кверху брюхом. Выше мяча и веток проносились быстрые осенние облака. Я закрыл глаза: падаю!