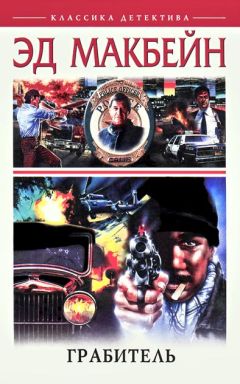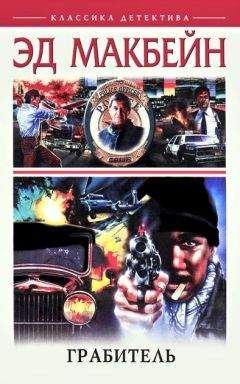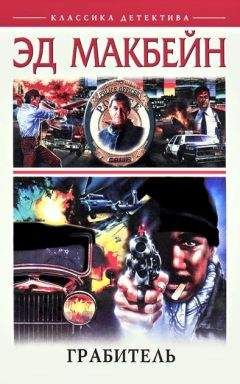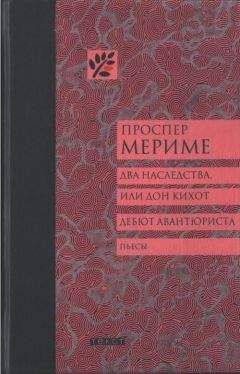Андрей Осипович-Новодворский - Эпизод из жизни ни павы, ни вороны
— Что с тобою, ангел мой? — тревожусь я в свою очередь. — Если эти сосуды…
— Ах нет!.. — она растягивает слова, как бы засыпая.
— А что же? Может быть, хочешь кофейку или ветчинки?
Я, конечно, говорю глупости: когда дело касается кофейку или ветчинки, то скорее она может предлагать их мне, чем наоборот; но она так поглощена мыслями, что и не замечает этого нарушения своих естественных прав.
— Мне пришло в голову, что ты… ужасный филистер!
Это меня нисколько не смущает, словно этого и следовало ожидать, и несколько фальшивой фистулой я произношу речь, тоже растягивая слова и трепля ее по руке:
— Друг мой! ты ошибаешься… Это, конечно, не беда: человеку свойственно заблуждаться, но не давай злым языкам выводить неправильные заключения о нашем счастье, потому что нравственность и без того падает кругом нас… Положим, публика не признаёт законности нашего союза, и мы принуждены были ограничиться обществом друг друга, но это уединение укрепило нас, а не ослабило. Я не только приобрел счастье, не только сделал тебя счастливою, но не пожертвовал на это ни одной копейки из своего душевного капитала; я вполне сохранился и далеко не филистер. Если же мои глаза напоминают оловянные пуговицы, то спрашиваю тебя: чем олово хуже всякого другого металла, висмута там, что ли? Это самый кроткий металл! Блестит ли он в виде пряжки на башмаке, в виде пуговицы на панталонах или глядит из-под бровей человека, — он всегда внушает невольное доверие; чувствуешь, что человек весь тут, что у него ничего там, за душой, нет…
Я становлюсь всё более и более красноречивым и до того увлекаюсь, что и не замечаю своего одиночества. Она ушла; сделалось почему-то темно, раздался вдруг треск чего-то разбивающегося, и резкое сопрано, бог весть откуда, несколько раз прокричало: «Филистер, филистер!»
«А, филистер? Так вот же тебе!»
Под покровительством сильного беса, с аккомпанементом самоотверженного tenore dolce, я сразу погружаюсь в грязь по колени и начинаю что-то расчищать во главе целой армии рабочих…
«Филистер? Смотри же теперь: видишь эти мозолистые руки? Видишь, как моему голосу повинуются тысячи народа? Да какого народа! Все мрачны и силачи, словно из бронзы вылиты; а как говорят! Хочешь, любой из них заговорит таким образцовым мужицким наречием, что какую угодно книжку за пояс заткнет?»
И я расчищаю, командую, работаю…
Каждая из этих бронзовых фигур обладает бабой, которая не упрекает, а только любит его; а я одинок. Ничего; мне это, можно сказать, даже незаметно: другая идея у меня в голове…
И я всё командую, командую; покурю и снова командую…
К ним приходят их жены, с детьми на руках и ласкою в любящих глазах. По этим суровым лицам пробегает какая-то теплая задушевная игра, как бы от освещения извнутри; а я всё одинок, и нет никому до меня дела…
«О, приди, покажись, желанная! Хоть один взгляд!..» — не выдерживаю наконец я и восклицаю таким трогательным, даже слезливым, тенором, что стоящая поблизости фигура насмешливо рявкает и катит низкой октавой:
— Не хнычь, паря, не дури! Ишь, словно баба, размяк… мяк… мяк…
Меня выводит из неприятного положения начавшийся в эту минуту стройный, торжественный концерт, под влиянием которого я начинаю сознавать, что совершенно напрасно протягиваю руки, куда не следует или откуда не следует: если бы она спрыгнула ко мне в грязь, я, кажется, сам немедленно ушел бы оттуда. Я не могу допустить, чтобы эти атласные руки копались во всякой гадости, чтоб на этом изящном теле вместо элегантного платья с кружевами появился неуклюжий рабочий передник… Нет, я лучше всю ее изукрашу кружевами, обсыплю розами, приду измученный с работы и буду приносить ей жертвы… Экая чепуха!..
Так как, благодаря любезности кавалеров, составивших специально для вас руководство физики, вы, «прекрасная читательница», знаете, с какой скоростью колеблются струны, то мне нечего объяснять, что всё описанное я перечувствовал в чрезвычайно малое время, и именно в то мгновение, когда дальнейшее молчание могло бы показаться продолжительным и странным моей даме, во мне уже созрело ясное понятие о нашем положении и готов был план действия.
Я взял ее руку и произнес глубоко прочувствованную речь примерно такого содержания:
— Друг мой, я вовсе не скала; я скорее слаб, чем силен, но во мне есть кое-какой огонек, кое-какие желания и планы, и я хочу их осуществить. Я не имею права на личное счастье, хотя бы на счастье с тобою: я его не заслужил… Я должен идти, куда ты не можешь следовать за мной, а если б ты пошла, то это принесло бы только вред: меня связывала бы любовь к тебе… Если силы мои окажутся достаточно большими, чтобы вести нас обоих, и если в твоем сердце не угаснет любовь ко мне, то я приду и упаду к твоим ногам, если же…
Она упала в обморок…
Я старался помочь ей, как мог и умел; к счастью, скоро она начала приходить в себя. Ее обессиленное, гибкое тело лежало у меня на руках; я осыпал его поцелуями…
Как раз вовремя подъехали наши отставшие спутники, тоже, очевидно, сделавшие привал; и благодаря дружным усилиям больная окончательно оправилась. Ее пожурили за отчаянную скачку, и мы шагом вернулись в город.
Часа через два я уехал из Севастополя.
Выдался серенький, дождливый денек, какие очень редко бывают весной. Я шел к реке. Город еще дремал (это было в городе К.). По пустынным улицам то там, то сям торопливо шнырял лишь рабочий люд, а я смотрел на него любящими глазами и переживал, можно сказать, тысячу жизней. Я переносился с каждым рабочим к месту его тяжелого труда, возвращался с ним домой, видел, как он, желчный, раздражительный, отпускал тумака не умевшей угодить жене; как испуганные гневом отца и слезами матери робко жались в углу голодные ребята; как он, угрюмый и мрачный, сидел несколько минут неподвижно, ни на кого не глядя, ни с кем не заговаривая, и мучился угрызениями совести, а потом вдруг вскакивал, схватывал шапку и почти бегом отправлялся в кабак… Для меня не существовало крыш на домах; все они раскрыли предо мною свое нутро, сверху донизу, и презентовали картину мучений, стонов, вопля, тупого терпения и немого отчаяния… Бесприютно как-то, серо и печально смотрело всё вокруг.
А бесприютно-то и сиротливо было, собственно, у меня на сердце. Отсыревшие на дождливой погоде струны звучали так печально, как рожок на похоронах солдата, и напевали образы, не имевшие никакой точки опоры в действительности. На самом деле дома выглядели не только не печально, но, напротив, были до того приличны, что и не согласились бы обнаружить свое нутро в такую раннюю пору, когда столько непорочных девиц и целомудренных супругов, невинных младенцев и почтенных старцев предавались безмятежному отдыху, видели сны, и когда вследствие этого там царствовал некоторый беспорядок…
Всё это я знал, но не хотел дать себе ясного отчета в своих чувствах. Я был наполнен любовью — и довольно… О «прекрасная читательница»! Как любил я ее, Доминику Павловну! Сколько уловок пускал я в ход, чтобы убедить себя в праве обладать ею, в праве на наслаждение!
Несколько последних дней я провел в лесу, старом сосновом лесу, что за городом. На небольшой лужайке там лежало сломанное бурей дерево; я взбирался на него, усаживался между ветвями и думал, думал. А она всё стояла перед глазами, бледная, в обмороке…
Должно быть, я очень похудел. В моем углу, в подвальном этаже одного большого дома, не было зеркала, да я, впрочем, не гляделся бы в него, но руки сделались очень прозрачными и платье мешковатым.
Я настойчиво силился подольше удержать в воображении ее образ в обмороке, но мне это не всегда удавалось. Она приходила в себя, оглядывалась кругом большими, недоумевающими глазами, потом всматривалась в меня внимательнее и внимательнее, потом вдруг вскакивала с места и убегала, а я долго рыдал… на груди доброй старушки матери.
У меня есть мать, «прекрасная читательница». Конечно, настоящая моя мать — княжна Мери, но я ее не помню. Меня усыновила и воспитала вдова сельского священника Феоктиста Елеазаровна Преображенская (также и моя фамилия). Она живет в маленьком хуторе, в Харьковской губернии. Я никак не мог добиться, каким образом попал к ней и какие отношения связывали ее с княжной Мери. Всякий раз, как об этом заходила речь, Феоктиста Елеазаровна отмалчивалась или заговаривала о другом. Мне известно только, что княжна оставила ей тысячу рублей на мое воспитание и что эти деньги издержаны были до копейки на наем квартиры и плату за мое учение в гимназии. Два года университетской жизни я пробивался уже сам уроками.