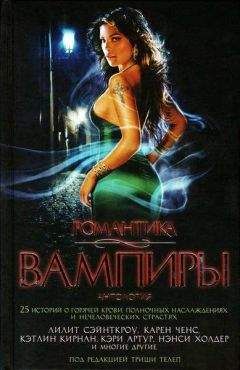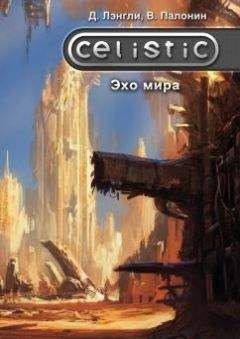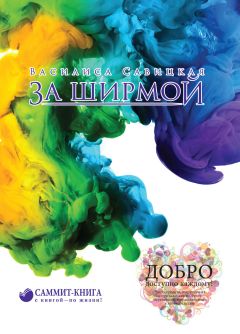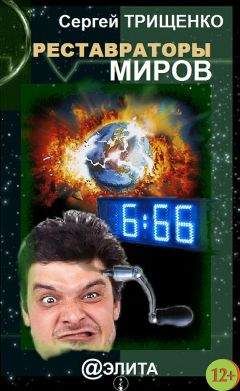Павел Улитин - Путешествие без Надежды
Прямое общение с другим языком происходило через цитирование иностранных (в первую очередь, английских) книг, попадавших ему в руки через общих знакомых или с полок Библиотеки иностранной литературы. С шестидесятых годов Москва постепенно становилась городом, куда стали регулярно наведываться иностранцы. Многие оставляли в подарок завезенные книжки. Мне перед отъездом досталась «Планета мистера Замлера» Сола Беллоу, где герой — вымирающий тип еврейского интеллигента в современной Америке, динозавр другой — европейской — культуры, реликвия из до-американского прошлого. Из моих рук книга перекочевала, естественно, в тексты Улитина: ссылки на нее стали частью его монологов тех лет. В качестве культурного обмена я получил от Улитина книгу Агаты Кристи «В неизвестном направлении» («Destination Unknown») — необычный для Кристи политический триллер, где героиня уезжает из опостылевшего Лондона в Марокко — от самоубийственной депрессии, беспросветного отчаяния и одиночества, лишь для того, чтобы впутаться в интригующий сюжет в духе черной утопии, с маньяками-диктаторами и исчезновением величайших имен науки в разных частях земного шара. Там есть и философский мотив: можно ли обрести состояние незамутненного ничем, ребячливого счастья и восторга, при этом не потеряв ни остроты ума, ни ощущения драматизма жизни?
Эти два сюжета тут же вошли в «Путешествие без Надежды» как аллюзии на разговоры об отъезде, о надеждах, связанных с другой географией, другой цивилизацией. Бывают такие состояния приподнятости и одержимости некой одной мыслью, мотивом, идеей, что все вокруг тебя становится не более, чем манифестацией этой идеи, все ложится в строку, все события, казалось бы, происходят лишь как элемент этого твоего внутреннего сюжета, этого триллера. Всякая случайная ерунда, короче, обретает символическое значение, всякая разговорная белиберда звучит как пророчество. Интенсивность ощущения обращает всякий шаг и событие, всякое слово в твоем общении, в часть некоего единого целого — твоей сверхзадачи на данный момент.
Может быть, в этом и секрет прозы Улитина: подхваченные на ходу, перемешанные и перемонтированные в свой собственный текст случайные чужие реплики его окружения воспринимаются нами на каждой странице как магия и гармония надиктованного свыше. Предварительного расчета не было, но была убежденность в том, что при такой напряженности личного общения, в такого рода жизненных ситуациях, слова не подведут — их сопоставление приведет к чему-то крайне интригующему. Каждый раз поражаешься, из какого сора рождаются стихи. (Особенность помоек, как объяснял Виктор Михайлович Иоэльс во время проходов по улице Горького, в том, что в горе выброшенных вещей, в куче барахла все кажется бездарным и ненужным. Но стоит выделить предмет из общей кучи, стереть с него пыль, и он засияет в своей уникальной антикварности.) Улитин годами отсеивал из макулатуры разговоров ключевые фразы. Из этих отдельных фраз составлялись самостоятельные тексты, где каждое слово — ключ к опыту прошлого, грохнувшегося в небытие, в архивные подвалы госбезопасности или еще более глубокие подземелья памяти тех, кто когда-то считался близким другом. Логические провалы создают драматическое напряжение — они скрывают это неупомянутое прошлое, опущенные памятью эпизоды. Это тексты, составленные из упоминаний, ссылок, ключевых фраз, уцелевших в памяти как бирки, карточки библиотечного индекса — библиотечный каталог роковых событий собственного прошлого.
Уход в другой язык, в Государственную Библиотеку Иностранной литературы, в чужие слова происходили от нежелания высказывать свои собственные слова, когда при этом хочется общаться с собеседником. Я при этом вовсе не хочу сводить всю литературу Улитина к метафоре общения между подследственным и следователем. Но тюрьма и библиотека почти всегда упоминаются у Улитина вместе. В первую очередь потому, что российские тюремные библиотеки, особенно в советское время, собирались из книг арестованных.
Ленинградская тюремная психбольница была в этом смысле блестящим примером. Даже занятия трудотерапией для интеллигентных психов происходили в переплетной мастерской при библиотеке. Сами эти занятия трудотерапией превратились в большой разговор со стенограммами, буриме, сочинением стихов и перепиской между отделениями. Любопытно — опять же в смысле связи тюрьмы и литературы — все трое попали в психушку именно из-за чтения стихов во время допросов. (Об этом Улитин и оповещал слушателей во время моего первого визита на кухню Айхенвальда.)
Стихи (точнее, их чтение для неподходящей аудитории в виде следователя) их и спасли: трех мушкетеров направили не в Магадан, не на лесоповал или урановые рудники, а в Ленинград, в теплые и светлые палаты тюремной больницы. В сталинские времена это было не совсем злоупотребление психиатрией в политических целях. Точнее, это было совсем не злоупотребление. Надо было, скорее, сказать спасибо следователю, что он этой самой психиатрией злоупотребил. Чистые простыни и веселая компания, сливки интеллектуальной элиты сталинской эпохи, гении русского фрейдизма и итальянской комедии дель арте, вейсманизма и истории инквизиции. Они там все учились переплетать рукописи будущего самиздата. Асаркан умудрился даже поставить там «Тень» Шварца (он знал эту пьесу наизусть), где играли пациенты психбольницы. Лишь после премьеры Асаркана выяснилось, что в спектакле участвовали и патологические убийцы и людоеды; что, собственно, соответствует и содержанию пьесы. Режиссера вызывали на бис. Но не съели. Улитин, с его склонностью подыскивать европейские цитаты — эхо других веков — для советских событий, упоминал в связи с этим Маркиза де Сада с его спектаклем в тюремном сумасшедшем доме Charenton. Именно в ЛТПБ Улитин научился мастерству переплетчика — отсюда пошли и все метафоры о том, кто за что попал в переплет и чье дело шито белыми нитками. Свои странички, разбросанные по разным адресатам, и их почтовые ответы Улитин «вставлял в переплет», «сшивал белыми нитками» — и, как в буриме, чем случайней было, порой, сопоставление, тем смешней и пронзительней читалась стенограмма общения. Это называлось «культом черновика».
* * *Давайте подошьем к этому делу биографический отрывок, высвечивающий второй план улитинских перемещений между домом и чужбиной не только в языке, закованном в государственные границы, но и в пересечении рубежей собственной жизни. Улитин отвечал каждому из нас репликами — эхом из собственного опыта — отвечал своей жизнью на сказанные слова. И поэтому так важны свидетельства о его жизни по другую сторону письменного стола — служившего еще и обеденным столом в его домашнем быту. Отсюда он рвался в уличное общение с друзьями-знакомыми, сюда всегда возвращался. Во всех этих перемещениях вдоль улицы Горького, между столиками кафе «Артистическое», на московских журфиксах и бульварных лавочках (у меня с Улитиным были даже встречи в бассейне — «каждый четвертый четверг у четвертого павильона» — на месте разрушенного и еще не восстановленного храма — то, что он называл «школой плавания»), среди всего этого кружения московских разговоров проглядывает еще одна «заграница» — улитинское прошлое. («Прошлое — это другая страна: там ведут себя иначе», как сказал английский писатель Хартли в романе «Посредник».) Речь идет о ежедневном выживании гения из провинции в большом чужом городе — его собственное путешествие без надежды. Вслед за смертью Улитина в 1986 году, его вдова Лариса Аркадьевна прислала мне по почте огромное письмо. Вот отрывок из него — описание жизни Улитина до ареста и после освобождения — глазами жены (он шутливо называл ее «домашней безопасностью»):
…До этого несчастья [ареста в ИФЛИ — 3.3.] он был здоровым парнем, спортсменом, а из больницы [из тюрьмы — 3.3.] вышел полным инвалидом, на костылях. О продолжении учебы не могло быть и речи, и он вернулся к маме в станицу на долечивание. Когда она его более или менее поставила на ноги, он работал учителем в станичной школе. В войне он, естественно, не мог участвовать в силу своей полной инвалидности. После войны они с мамой жили в Москве, вернее, под Москвой, в Малаховке. ИФЛИ тогда уже не существовал, его факультеты (исторический и философский) слились с соответствующими факультетами МТУ, а литературный выделился в самостоятельный Литературный институт. Впрочем, может быть, это было позже, я не знаю. Павлушенька еще в детстве проявлял большой интерес к иностранным языкам: выучил немецкий и французский под руководством мамы. Она была по тем временам очень передовая и образованная женщина (курсистка — окончила в Петербурге Высшие женские курсы и снова вернулась «в народ»). Она ведь родилась еще в 1877 году, а его родила когда ей был уже 41 год, он был «поздний ребенок».