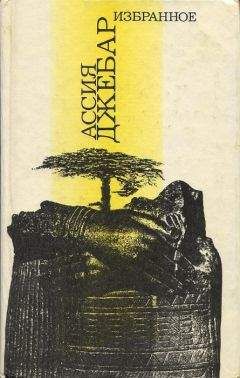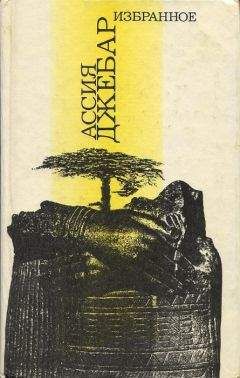Ассия Джебар - Любовь и фантазия
Ну а пока, облокотившись на подоконник, я, девочка, все еще стою здесь, у дома жандарма. Их столовую в конце коридора, освещенную светом, падающим из кухни, мне довелось видеть только так, через окно. Для меня, так же как и для моей подружки, было ясно, что самый красивый дом с изобилием ковров и отливающих всеми цветами радуги шелковых подушек — это, безусловно, «наш». Женщины наши, родом из соседнего города, славившегося своей вышивкой, приобщились к этому искусству еще во времена турецкого владычества. Их обучали этому с самого раннего возраста! А вот из какого глухого угла французской провинции была родом бургундка? Об этом много говорилось у нас во дворике в послеполуденные часы отдыха, озаренные появлением Жанин и ее матери.
— Ведь далеко не все француженки явились сюда из Парижа, — утверждали кумушки. — Большинство из тех, кого прельстила наша порабощенная страна, приехав сюда, умели разве что доить корову! И если уж они приобщаются к цивилизации, то потому лишь, что входят здесь в силу и богатеют. Законы-то ведь созданы для них, для блага их мужей и сыновей!
— Да вы посмотрите только на Жанин и на то, как она одевается, бедняжка! Вся в мать: сердце доброе, а в руках — никакого искусства!
— Ну а Мари-Луиза?
— Мари-Луиза исключение! У нее врожденный вкус парижанок и утонченность, прелесть наших брюнеток!.. Взять хотя бы черную смоль ее волос, а цвет лица — чистая слоновая кость! Нарядить бы ее по нашему обычаю, как невесту, и любой султан пожелает ее взять себе!
— Может, супруга жандарма прижила ее с каким — нибудь неведомым арабским военачальником, знатным господином с высокогорного плато, когда жандарм служил на юге! — усмехнулась одна из собеседниц. Какой настоящий мужчина откажется поухаживать за француженкой, к тому же молоденькой и крепкой, какой она, верно, была? Может, у них это и не считается грехом!
Старшая из сестер возмутилась; она стала обвинять родственницу в злословии или по крайней мере в неведении. Сама-то она всей душой любила Жанин и уверяла, что в семействе жандарма могли царить лишь нравы воистину «арабской» чистоты.
Мнения обычно разделялись, но в результате всех этих споров беседа неизменно возвращалась к исходной точке: неужели и в самом деле наш клан, пускай временно пришедший в упадок, превосходил своей утонченностью, вопреки всякой видимости, чужестранный с его свободными женщинами? Ибо они действительно были свободны, хотя мы вовсе не завидовали им и говорили о них между собой как о странном племени с диковинными нравами, которое до той поры нам редко доводилось видеть вблизи.
И вот мы с младшей из сестер снова стоим все у того же окна этого французского дома, но уже в другой, такой же солнечный день.
Правда, на этот раз мы пребываем в некотором замешательстве. Мать у своего чана заканчивает стирку; отец, плотный коротышка, один вид которого в военной форме обращает на улице в бегство любого деревенского жителя, сидит там с добродушным выражением на лице, просто в рубашке и, неторопливо раскуривая свою трубку, держит в руках развернутую местную газету. Прямо напротив нас, в глубине коридора, идущего из залитой солнцем кухни, стоит Мари — Луиза, а рядом с ней — краснолицый молодой человек со светлыми усиками. Это и есть жених, тот самый офицер, о котором все вокруг толкуют!
Зрелище показалось нам невероятным. Прежде всего нас поразил вид этой пары, стоявшей чуть ли не в обнимку: стройный силуэт Мари-Луизы, склонившейся к застывшему неподвижно мужчине… Их негромкий смех, смешанный шепот их голосов все это представлялось нам знаками недопустимой близости. Однако мать, как ни в чем не бывало, продолжала беседовать с нами, поглядывая время от времени на парочку; отец же, напротив, сидел, уткнувшись носом в свою газету.
Помню, что Мари-Луиза вела себя вызывающе, и еще помню два ее выражения: одно — «мой зайчик», а другое «мой дорогой». Я даже рот разинула от удивления. Потом она начала раскачиваться то вперед, почти касаясь при этом молодого человека, то назад, и так много раз… причем все это сопровождалось раздражающими восклицаниями, бесконечными «мой дорогой!» Под конец, чуть не упав, она ухватилась за жениха, скованного своим мундиром. Тот на вид был спокоен, мы едва слышали его шепот — должно быть, он просил ее вести себя не так шумно в присутствии других: отца, который не поднимал головы, и этих двух девочек, застывших у окна…
Час спустя мы изображали эту сцену у нас во дворике перед женщинами, собравшимися у низкого столика за чашкой кофе.
— И отец даже головы не поднял?
— Нет! Мари-Луиза тихонько шептала офицеру ласковые слова, она обнимала его, а потом даже встала на цыпочки.
— Вы видели, как они целовались? — оторопев, спросила вторая сестра, не отрываясь от швейной машинки.
— Честное слово!.. Вытянув губы, они поцеловались, как птички!
Мы никак не могли взять в толк, почему жандарм, наводивший такой страх на деревенских улочках, даже глаз не решился поднять! Наверное, он весь покраснел от смущения — так мы предполагали и неустанно обсуждали это.
— Ох уж эти французы! — вздохнула вышивальщица, заканчивая отделку простыни, которую готовила себе в приданое.
— Мари-Луиза немного перестаралась, вот и все! — заметила старшая из сестер, почитавшая своим долгом защищать сестру своей подруги.
Вскоре Мари-Луиза, которая вновь уезжала, зашла навестить нас. Она обещала привести к нам своего жениха. Девочки оказались в затруднительном положении; они опасались реакции отца: в его глазах присутствие в доме постороннего мужчины, пускай француза и даже жениха Мари — Луизы, было совершенно неуместно…
Удалось ли им объяснить это Мари-Луизе или по крайней мере Жанин? Однако я в самом деле не помню вторжения офицера хотя бы на несколько минут; должно быть, его попросили не торопясь пройти мимо ворот, чтобы подружки, жившие в заточении, могли взглянуть на него сквозь отверстия в ставнях и поздравить затем Мари-Луизу с выбором такого представительного суженого…
Еще более отчетливо помню один из последних визитов этой барышни. Она стояла у края колодца под виноградной лозой, волосы ее были зачесаны конусом, а поверх, оттягивая их назад, округлым куполом лежала черная коса, оттеняя тонкие черты ее лица, глаза и щеки у нее были подкрашены. Этот избыток счастья, написанного у нее на лице, ставшем еще ярче и красивее, оттого что она ощущала себя невестой, остался у меня в памяти. Она жеманничала, заливаясь гортанным смехом, и неустанно говорила о своем женихе, рассказывала о его семье, жившей во Франции, об их свадьбе, которая должна была состояться через несколько лет… Каждый раз, как она произносила «мой милый Пилу», та или другая из женщин, сидевших на циновке, снисходительно улыбалась. «Мой милый Пилу», — твердила Мари-Ауиза, именуя таким образом офицера. И мы, девчонки, бежали в сад, чтобы всласть посмеяться там. «Пилу» означало Поль, а слова «мой милый», которые она постоянно добавляла к этому имени, должны были, по нашему мнению, звучать только в альковах, ибо касались таинства супружеских пар.
«Мой милый Пилу» — стоит мне вспомнить эти слова, и перед моими глазами вновь оживает все та же картина: молодая тщеславная европейка разглагольствует, упиваясь вниманием сидящих на земле слушательниц; я вспоминаю наше детское возбуждение, возбуждение девочек, уже ставших пуританками, девочек, которые всего через год тоже окажутся взаперти, очутившись в замкнутом пространстве дома и сада…
«Мой милый Пилу» — слова эти сопровождались приглушенным смешком; стоит ли говорить, какое разрушительное воздействие оказало на меня впоследствии это обращение? Я сразу же, очень рано, даже слишком рано, почувствовала, что влюбленность, любовь не должны выставляться на всеобщее обозрение с помощью пустых, мишурных слов, дешевой показной нежности, вызывая зависть тех, кто изначально лишен всего этого… Мне представлялось, что любовь — это нечто совсем иное, неподвластное словам и жестам, которые слышат и видят все.
Казалось бы, что тут особенного — совершенно безобидная сцена детских лет, но бездарная сухость выражения запала мне в душу, лишив дара речи романтические чувства, свойственные определенному возрасту. И несмотря на одолевавшие меня позже, в отроческие годы, бурные мечтания, оковы, сковавшие меня из-за этого «милого Пилу», так и не разомкнулись: французский язык одарил меня всеми своими неисчерпаемыми богатствами, не подарив при этом ни одного, ни единого слова, способного выразить любовь!.. Немота эта будет неизменно сдерживать мои женские порывы, и наступит день, когда неминуемый взрыв произойдет и время повернет вспять.
IIIВзрыв в Императорском форту 4 июля 1830 года. Десять часов утра. Чудовищный грохот поверг в ужас всех жителей Алжира, наполнив торжествующей радостью сердца солдат французской армии, постепенно продвигавшейся от Сиди — Феррюша к укреплениям столицы.