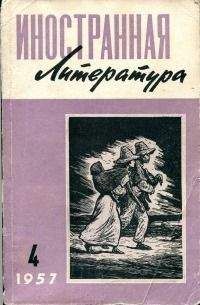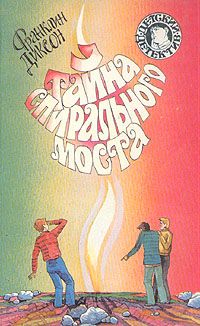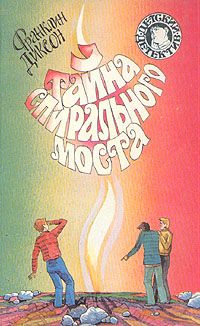Эли Визель - Завещание убитого еврейского поэта
Будучи подростком, я отыскал в томике, принадлежащем моему отцу, фотографию, которая по необъяснимым причинам меня смутила. На ней был изображен какой-то хасид очень величавого вида. Крупный, мощный, с благородным и приветливым лицом. Я спросил о нем у матери:
— Кто это?
— Твой дедушка, — отвечала она. — Пальтиель Коссовер. Ты должен гордиться, что носишь его имя.
Я же по глупости, только чтобы ее задеть или сбить с толку, выкрикнул:
— Что значит гордиться?
И коммунист во мне зашел в своей наглости еще дальше:
— Мне гордиться каким-то хасидом? Да я стыжусь его!
Мама молча заплакала, а я вместо того, чтобы остановиться, попросить у нее прощения, продолжал с нечестивостью, достойной полного кретина:
— Ты забываешь, мама, в какое время мы живем. Мы верим в коммунизм, мы покончили с Богом и отвергаем тех, кто использует веру в Него, кто использует Бога для того, чтобы помешать евреям освободиться от старых повинностей, жить по своей воле, бороться за гражданские и человеческие права.
И на глазах у объятой ужасом матери, чей взгляд по сей день не могу забыть, я порвал желтую фотографию — верх грубого недомыслия! — в некотором роде отправляя в небытие собственного деда… Теперь я об этом сожалею, гражданин следователь. Впрочем, я пожалел об этом уже вскоре, но по совсем другим причинам. Мама не стала меня ругать или чем-то угрожать, только проговорила тихо:
— Я ничего не скажу твоему отцу, Пальтиель. Я ему ничего не скажу.
Тут мне захотелось вымолить у нее прощение, прижаться к ней и… Но я этого не сделал. Мне было слишком стыдно… или, напротив, недостаточно. Теперь я раскаиваюсь во всем этом, причем вдвойне: мне больно, что причинил столько горя матери, обидно, что предал отца, жалко, что надругался над лицом деда, чье имя ношу. Как хотелось бы, чтобы однажды сын увидел его портрет! Впрочем, он никогда не увидит даже моего. Мой сын… Не заставляйте меня говорить о сыне, гражданин следователь, имейте жалость, прошу вас, хотя знаю, что ее у вас нет. Спрашивайте меня о чем угодно, но оставьте сына вне ваших игр: ему только два года.
Он носит имя моего отца: Гершон. Уменьшительное от него — Гриша. Мой отец был одновременно властным и добрым. Будучи младшим из восьми сыновей, он, казалось, страдал неизлечимой робостью. Между тем он заставлял к себе прислушиваться, лишь только входил в комнату. Редко повышал голос, однако ему достаточно было кашлянуть, прежде чем начать говорить, как все внимательно замирали. То, что он хотел сказать, всегда укладывалось лишь в несколько фраз, подчас в одно слово. Ясно, сжато и справедливо. Вижу, как вы посмеиваетесь, гражданин следователь: мое обыкновение с такой любовью упоминать об отце вас, разумеется, забавляет. Тем лучше или тем хуже. Отец… я любил его, я им восхищался. Я никогда ему этого не говорил, вы единственный, кто это слышит. Он, видите ли, наверняка думал совсем не так. Признайте же, я прилежно воспринял уроки коммунизма: сын должен отречься от своих предков.
Отец… Я принес ему много горя… я его мучил, пытал. Тем не менее, когда он решал мне отвечать, опровергнуть какой-либо довод или просто поговорить с глазу на глаз, я слушал его, не перебивая.
Я — единственный из троих его детей (у меня еще были две сестры), кто причинил ему столько забот. Он хотел, чтобы я вырос хорошим евреем, я же сделал все, чтобы замазать грязью его мечты. Теперь, составляя это завещание, я пытаюсь добраться до истоков собственного бунта. В каком возрасте это произошло? Сразу после бар мицвы, то есть мне уже шел четырнадцатый год. Значит, это случилось после нашего отъезда из Белева.
Я вспоминаю о Белеве, о моем белевском детстве. Еврейский дом на еврейской улочке, проложенной в еврейском же квартале. Если перефразировать нашего великого поэта Ицхака-Лейба Переца: у нас в Белеве даже речка говорила на идише, и деревья из месяца в месяц хвастались или печалились тоже на идише, солнце же вставало, чтобы посылать еврейских детей в хедер, а каббалистов — к ритуальным омовениям. Время протекало, делилось по четвертям года, руководствуясь ритмом Торы. Все предавались отдыху в седьмой день недели, ели мацу на Пасху, постились в Судный день и пьянели, славя Талмуд. Зажигали свечи, чтобы отпраздновать победы и чудеса, отделенные от нас не одной тысячей лет, молились за восстановление Храма, чье разрушение всех еще ввергало в грусть. Давид со своими псалмами, Соломон с притчами, Илия со спутниками, Бешт с учениками жили прямо среди нас. Рабби Акива, рабби Шимон бар Йохай, маленький рабби Зейра из Вавилона были частью нашей повседневности: я слушал их, с ними говорил, играл с их детьми. Мы все цеплялись за настоящее, но жили в прошлом.
Когда мне исполнилось три года, отец завернул меня в свое бескрайнее, тяжелое молитвенное одеяние и отнес к наставнику реб Гамлиэлю. Суровый лик, густые брови, всклокоченная борода — реб Гамлиэль внушал ужас, нас у него было с десяток ребятишек или, может, два десятка (я еще не умел считать), и нам предстояло выучить, распевая их, те священные вечные буквы, с помощью которых Всевышний, как полагают, создал Вселенную, а теперь мы, Его противники, свирепые рационалисты, думаем все объяснить. Лентяи каждое утро дрожали, впрочем, и все прочие тряслись тоже: реб Гамлиэль при всяком удобном случае пускал в ход плетку, охаживая спины нерадивых, рассеянных — последних он обвинял в лени, расхлябанности и даже в склонности к бандитизму… Не верите? Он так считал. Реб Гамлиэль воплощал все, что я мог ненавидеть в трехлетнем возрасте. Но ныне, когда я подвожу итог этим дальним годам, я вспоминаю старого наставника тепло и ностальгически.
И не надо мне говорить, что это в порядке вещей: мол, евреи любят страдать. Мы не так глупы. Если я испытываю что-то вроде нежности к суровому старику, который когда-то причинял мне боль, то не из-за любви к страданию, а из почтения к знаниям. Скажу даже, что в то время я презирал реб Гамлиэля — его самого и все, вестником чего он являлся: учение через страх, принуждение к занятиям — душную тюрьму, где даже слова упрямо не желали повиноваться: они когтили и до крови обдирали рассудок.
Каждый вечер я возвращался домой в слезах. Отцу я их, разумеется, не показывал. Никогда бы не осмелился даже намекнуть ему, что подобное преподавание мне отвратительно, что я до смерти боюсь того, кто меня учит. Но я отводил душу перед матерью. Поскольку отец часто задерживался в магазине (он торговал тканями), мне выпадал час или два, чтобы стереть следы дневных мучений. Чтобы успокоить меня, мама напевала грустные колыбельные: под люлькой дремлет овечка, в люльке спит младенец, а на него льются слезы нежной прекрасной вдовицы, и имя ей — Сион… А мама прибавляла:
— Выучи эти слова: сегодня они навевают сон, но завтра ты их заставишь звучать, и они запоют.
Постепенно я приспособился к ритму такого существования: днем плакал, вечером улыбался. Так продолжалось два года. Два года подавленных печалей и приступов ярости; двадцать две буквы алфавита встречали меня с вызовом, но я, скрепя сердце, их все же укрощал.
Когда я ушел от реб Гамлиэля к более ученому наставнику, то вскоре понял, что не вполне освободился от страха: тот словно прилип к коже, стал частью моей жизни. И еще я понял, что так чувствую не я один: даже мои родители еще несли на себе его отпечаток, а также их друзья, евреи на улице, в квартале — все увязали в страхе. Боялись, конечно, не реб Гамлиэля, но окружающего нас мира, чьи неясные угрозы заставляли содрогаться и самого грозного наставника.
Одно воспоминание: вечер Нового года, меня отправили домой еще до дневной молитвы «минха», я спрашиваю у матери, в чем дело. Она объясняет: с сегодняшнего вечера до завтрашнего утра запрещено изучать священные тексты. Почему? Она этого не знает. Набравшись смелости, я обратился к отцу, который знает все.
— Этой ночью, — отвечал он, — над нами проходит проклятье. Лучше не показывать ему наши тайные сокровища.
Позднее я узнал, что на всех христианских землях в эту ночь враги евреев преследуют их на улицах, чтобы наказать именем Господа и Его любви к ним; а потому считается более разумным не посещать в этот день ни школу, ни Дом молитвы и учения: осторожность велит евреям не выходить на улицу.
Я рос, созревал и понимал все яснее: быть евреем в христианском мире — значит познать страх и к нему приспособиться. Бояться надо неба, а плюс к тому — людей. Бояться жить и страшиться умереть, бояться всего, что дышит за твоей стеной, и того, что затевается с той стороны. Над всеми нами тяготел непроясненный страх, каждый боялся неведомо чего. Иногда опасение принимало определенную форму, угроза становилась явной. Так, я имел случай пережить от начала до конца мой первый погром и выжить. В каком возрасте? Уже не помню. Знаю только, что это случилось еще до Первой мировой войны.