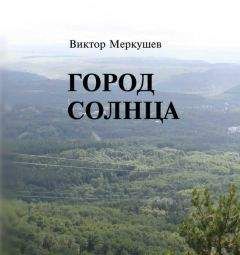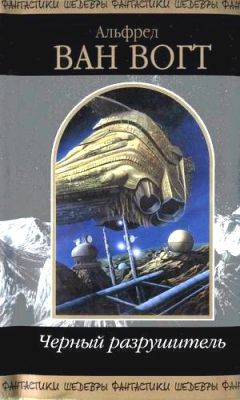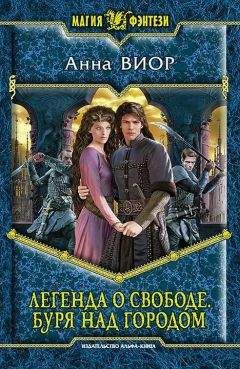Анатолий Курчаткин - Повести и рассказы
Всегда у меня, сколько помню, были женщины, как это мягко говорится, легкого поведения. Потаскухи. Всегда. Как я понимаю теперь, я просто обходил всяких иных. Словно их не было, иных, словно я был по отношению к ним прокаженным, и одно лишь мое прикосновение к ним заразило бы их. Я привязывался ко всем этим своим потаскухам, я, как послушная, хорошо выдрессированная собака, таскал за ними повсюду в зубах сумочки и все прочее, что мне давали, чинил им унитазы, утеплял двери квартир, ремонтировал электропатроны и так далее и так далее… но я всегда знал при этом, что не могу привязаться надолго, что это на месяц, на два, на полгода… а там будто что-то подгнивало в этой моей привязанности, будто перетиралось что-то и рвалось — все рушилось, все разваливалось, и мне ничего не было жаль.
И сейчас, я знал, во мне говорило лишь чувство оскорбленного самца, звериный инстинкт мщения за потерю. Но со мной уже бывало такое, и я уже научился преодолевать себя.
«Тем более что… Тем более что…» — бормотал я себе под нос, сам в общем-то не понимая вполне отчетливо, что значат эти слова.
У кинотеатра опять была небольшая толпа. Кончился сеанс во втором его зале.
Я вошел в кассы и, не узнавая названия фильма, купил билет на ближайший сеанс. В зале было пусто, прохладно, я сел на последний ряд, вытянул ноги под переднее сиденье и, откинув голову на стену, закрыл глаза. Я проспал, изредка просыпаясь, весь сеанс, и меня разбудила контролерша, после окончания его обходившая зал.
— Искусство они любят… — бормотала контролерша, неотступно следуя за мной к выходу шагах в трех позади.
Я ей не ответил.
Листая недавно у Макара Петровича какую-то совершенно специальную книгу по детской психологии, я прочитал, что детская психика устроена абсолютно по-другому, чем взрослая, в ней словно бы срезаны пики определенных эмоций, чувств, чувствований, все словно бы притушено, приглушено, и даже смерть самых близких не воспринимается как нечто ужасное, трагическое, непоправимое, а лишь как выпадение определенного звена жизни, меняющее ее уклад, образ, ритм… И потому ребенок легко обвыкается в новых обстоятельствах, вживается в них, как если бы они были свойственны для его жизни с самого рождения, и какие бы они ни были, как бы разительно ни отличались одно от другого, все для него будет естественно и единственно возможно, все он примет и со всем сольется.
Наверное, тогда, в лето перед моим пятым классом, когда я, независимо ни от чьих желаний, должен был остаться в Москве, потому что школа при представительстве была лишь начальная, мать думала, как это будет тяжело для меня, как это будет непереносимо для моей одиннадцатилетней души остаться одному — без родительской теплоты, родительской заботы, родительской направляющей руки — в холодной казарменной толчее интерната, и оттого после отцовского отпуска не уехала с ним, а осталась в Москве вместе со мной. Через полгода, правда, после зимних каникул, я все же оказался в этом присмотренном ими заранее загородном интернате, где у меня в первый же день увели из тумбочки все деньги «на сладкое», доверчиво помещенные мной в верхнем выдвижном ящике рядом с зубной щеткой и мыльницей, — и ничего, через неделю уже был в друзьях, как в репьях, влит в это новое свое жизнеположение, будто так и было всегда, но даже если бы мать и была знакома с теорией, объясняющей свойства детской психики, — сейчас, с высоты своих нынешних, далеко уже не детских лет я прекрасно понимаю это, — могла бы она разве вот так сразу оторваться от своего ребенка, легко и просто преодолеть в себе материнское?..
И помню, весь отпуск перед этим моим пятым классом они вели с отцом один и тот же нескончаемый, лишь прерываемый разговор, сначала втайне от меня, потом чем дальше, тем больше не жалея моих ушей, и мне было страшно окунаться в их взрослый, непонятный, таинственный мир и любопытно, и я не порывался их остановить — в конце концов всегда они останавливались сами, — я слушал.
— Переведешься в Москву, — говорила мать.
— Заладила сорока Якова, — не глядя на нее и щуря глаза, что было у него свидетельством гнева, отвечал отец.
— Заладила, потому что это единственный выход.
— Да кто меня переведет, кто! — кричал отец, и на шее у него темно и тяжело вздувались жилы. — Все там у меня, у меня в руках — понимаешь, нет?! В моих руках — ни у кого другого! Все контакты, все дела! Да меня никто слушать не будет!
— Ну так надо было еще тогда, раньше еще отказаться, раньше еще надо было позаботиться! — тоже кричала мать, и глаза у нее вспухали слезами, она плакала, трясла головой, прикладывала к глазам платок и, видно совсем уже не в силах сдерживаться, выкрикивала между всхлипами: — И я тебе говорила… да, я тебе еще тогда говорила… а ты мне что?.. Ведь я тебе говорила!..
— Ладно, все, прекратили, — взглядывая на меня яростным, невидящим взглядом и тут же отводя глаза, произносил отец.
— Да, конечно, прекратили, — судорожно переводя дыхание, отвернувшись от нас обоих, говорила мать. — И вопрос на этом исчерпан, все решено, и, конечно, так, как ты хочешь.
— Да-а!.. Та-ак!.. — забыв о своем намерении прекратить, орал отец. — А отказался бы я тогда от этого места?! А?! Если б?! Жди потом, когда другой раз такой ранг предложат. Что, любят, да, когда отказываются? Не знаешь, да? И рост только там, там, знаешь же! Только там зарекомендовать себя можно!..
— Ну и наплевать бы на эту карьеру, — уже успокаиваясь и сморкаясь в платок, но все так же пока не глядя ни на кого, отвечала мать.
— Конечно… — сардонически усмехался отец. — Пусть вверх другие идут, а мы безропотно, хоть и достойны, внизу просидим.
— Не надо тебе, пожалуй, нынче было ехать с нами, — улыбаясь вспухшими красными глазами, взглядывала на меня мать. — Лучше бы в пионерлагерь, да?
И эта ее беспомощная грустная улыбка словно бы взламывала во мне жгуче-каменное онемение, я бросался к ней, схватывал ее руку и зажимал в своих детских еще, слабых руках.
— Нет, мам, нет, — бормотал я, протягивал руку к отцу, чтобы он подошел, брал его руку, складывал материну и его вместе и снова зажимал их своими руками. — Нет, я с вами…
Не знаю, не проверишь теперь, насколько я искренен был в этих словах, не в чувстве, а именно в словах — этих, произносимых. Наверное, я вовсе даже не против был бы провести месяцок без них в лагере, просто я знал, не разумом, нет, — нутром, что именно этими словами могу соединить их…
Помню еще один отцовский довод, то и дело вновь и вновь возникавший во всех этих разговорах, произносимый обычно спокойно-рассудительным тоном, и в памяти при этом — то стол пансионатской столовой со свисающими фалдами белоснежной скатерти, то раскаленная, обжигающая тело галька пляжа.
— А что, посмотри вон в Америке, — говорил отец, кивая головой, так, будто достаточно было повернуть голову, чтобы увидеть силуэты какого-нибудь Манхаттана. — Есть возможность — в частный пансион, девять, десять лет — и все, сам по себе ребенок, живет себе при этом пансионе, на каникулы только и приезжает к родителям. И это, заметь, в обычных условиях, при самых экстраординарных обстоятельствах…
Мать что-то отвечала, вроде бы даже что-то соглашающееся, уступающее…
И все-таки она не уехала с ним. И целых полгода мы жили с нею вдвоем. И были трезвонящие телефонные звонки международных вызовов, и мать сделалась со мной раздражительной и вспыльчиво-ласковой — все вместе, и вдруг прилетел отец, пробыл дома два дня, и через полторы недели улетела следом за ним она, устроив меня в тот самый интернат.
Что за встреча была у нас спустя несколько месяцев, когда мать, прямо в день прилета, уже совсем под вечер, приехала забирать меня! Я тогда как раз читал «Анну Каренину», и потом у меня долго было ощущение, будто я буквально физически пережил то знаменитое свидание Анны Карениной с сыном…
Но с той поры я вырывался из интерната только уже на недолгие дни отцовского отпуска. Случалось, что отпуск у него не приходился на лето, и тогда, уезжая в крымские и кавказские здравницы, они уже не брали меня. Потом мать стала задерживаться в Москве после его отъезда на месяц, на два, а то и на три, но я по-прежнему оставался в интернате, потому что, забери она меня на эти месяцы, возникли бы всякие сложности со школой, что отразилось бы на моей учебе, и я лишь приезжал домой на конец субботы и воскресенье. И, приезжая, я обнаруживал, как она делается все холоднее ко мне и равнодушней — будто отодвигает меня от себя все дальше и дальше, у нее была какая-то другая, отличная от прежней, когда даже на пору отдыха они не расставались со мной, жизнь, и в этой жизни не было места мне, или же если и было, то где-то на краю ее, в самом ее углу, в самом темном углу, самом дальнем. И чем взрослее я становился, тем яснее чувствовал это: я приезжал — она сидела перед трюмо в комнате, легкими касаниями пальцев массировала лицо, в нарядном платье, с нарядной прической, пахнущая духами. «В театр, — отвечала она на мой вопрос, улыбаясь нежно и отстранение — Ты ложись, не жди меня. Ужин в холодильнике, разогрей себе». Я бешено ревновал ее к этой ее неизвестной мне, другой жизни, я не ел, ожидая ее, и не ложился, показывая ей, что так нельзя, что она должна быть со мной иною, но она словно не замечала, а может быть, уже и не понимала всех этих моих демонстраций, и что я мог еще?