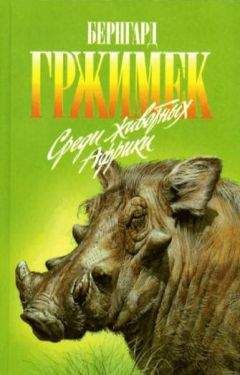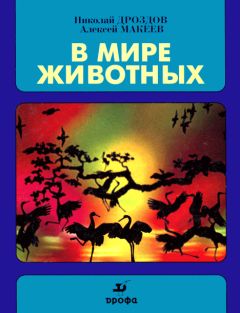Александр Проханов - Шестьсот лет после битвы
Избы резко кончились. Среди рассыпанных сугробов, вырубленных садов поднялись башни нового города. Высоко, нарядно блестели окна. Пестрели дорожные знаки. По бетону мчались машины. Иные люди, в других одеждах, с иным выражением лиц торопились по тротуарам. Новый город вломился в старый, как бульдозер. Раскраивал, раздирал стальными гранями обветшалые срубы. И они отступали без боя.
Линией встречи и гибели был дымящийся ров. На дне, над трубой теплотрассы сварщики мерцали огнем, чадили, гремели. Казалось, они минируют еще один ветхий, подготовленный к взрыву ломоть. И эта линия взрыва пролегла через него, Кострова. Он чувствовал в себе этот больной, незаживающий рубец.
Вереница машин катила по Новым Бродам, вдоль объектов, что были уже сданы, входили в действующий фонд города. И мимо тех. что строились и вводились. Костров смотрел, пересчитывал, словно боялся, чтобы они не исчезли, вновь и вновь убеждаясь в нарастающем богатстве.
Вдруг испуганно и нежно подумал: в это время в Троице на заснеженном дворе перед домом — его упрямый родной старик, задыхаясь, кашляя, хватаясь то и дело за грудь, строит лодку. Сорит желтыми стружками, вгоняет в тес гвозди. Строит свой Ноев ковчег, готовится к потопу. И надо скорей к нему, к его любимому худому лицу, к частому, в перебоях дыханию — успеть, обнять, усадить.
Станция, возникая мощно и грозно, возводимая множеством людей, в каждом завязывала свой узел, в каждого внесла свое напряжение. Его беда, его двойственность были в том, что он, секретарь, торопил возведение станции, желал ее скорого пуска. Но это желание приближало разорение села. Он сам насылал на село потоп. На отчий дом, на отца, на могилу матери, на белый шатер колокольни. Вот в чем была его мучительная действительность.
Об этом и думал теперь, разговаривая с инженерами у высокого шестнадцатиэтажного дома, еще не достроенного, в лысых панелях, с забрызганными известкой окнами.
— Ну что, опять будем ссориться? Опять все в те же места носом тычемся? Строительство этого дома должно вестись в пусковом режиме основного объекта, станции. А мы все возимся, возимся! Райком старался не вмешиваться, проявлял корректность. Вы обещали на бюро выкарабкаться из прорыва. И вот карабкаетесь, скребетесь, как мыши! А стройка лишена управления. Хромает куда-то сама собой! — Он говорил жесткие, обидные для них слова. Обветренные губы болели от этих слов, но он сквозь боль выталкивал их в лицо главному инженеру Лазареву.
Он воздействовал на главного инженера, на его бледный лоб, мигающие темные глаза, на его волю и ум. И это воздействие, как казалось Кострову, через невидимый поршень должно было передаться на стройку. Ускорить вращение поворотных кранов, стыковку труб и конструкций. Выдавить из снегов громаду станции еще на вершок. И она подымалась, увеличивалась, расталкивала грунт, раздвигала небо, вытесняла из берегов воду. Гнала ледяной пенный вал на сельскую околицу. Валила заборы, заливала проулок, где стоит душистая круглая липа с коричневым теплым стволом. А под ней — круглый стол, и отец, держа на длинных руках самовар, боясь опадающих угольков, выносит из огорода легкий пахучий хвост дыма. Мать ставит белые чашки, сахарницу, миску с горячими пышками. Втроем они сидят в прозрачной тени, и дерево гудит, благоухает, роняет на стол жужжащих, отяжелевших от сладости пчел.
— Вы простите, но я удивляюсь позиции парткома стройки! — Теперь он обращался к Евлампиеву, глядя в его спокойное, хорошее, крепкое лицо, наполняясь сдержанной к нему неприязнью. Выталкивал сквозь больные губы угловатые, дерущие слова. — На станции я не видел ни одного призыва и лозунга, связанного с пуском второго блока. Рабочие не знают конкретных сроков, конкретной цели! Не удается создать в коллективах морально-политической обстановки, когда все понимают цель, охвачены единым порывом. Ведь в войну люди делали невозможное, потому что понимали: быть или не быть стране! Сейчас положение не проще!
Станция набухала, наращивала высоту, наполнялась тяжелым железом. Наваливалась на берега и на воды. Потоки пены и льда врывались в село, крушили избы и бани, подбирались к родному крыльцу, точеному, с покосившимися резными колонками, под которыми сидела мать. В светлом линялом платье, в косынке, с мокрыми руками, устала копать, поливать. И такая к ней нежность, к ее загорелому светлобровому лицу, к тихим вздохам, к долгому взгляду сквозь кусты шиповника, на озеро. Далеко, за красивыми красными розами, в синем разливе — остроносая лодочка, рыбачит отец.
Он обращался к начальнику строительства Дронову. Смуглый, с проступавшим на скулах румянцем, с блестящей сединой на висках, накрытый пушистой шапкой. Водил раздраженно белками, дрожал ноздрями. Был похож на пушного чуткого зверя. Костров чувствовал его силу и ум. его сопротивление и протест.
— Не понимаю, хоть убей, почему вы, опытный строитель, имеющий за плечами несколько крупных строек, почему не можете держать в руках вожжи управления? Вы, простите, беспомощны! Вас не слушается стройка, и вы не можете ее схватить под уздцы. Есть же наука, теория! Вам сейчас не мешают, вы самостоятельны, так воспользуйтесь новыми методами управления! Убежден, чернобыли закладываются уже на стадии строительства, на стадии неумелого управления!
Вода срывала наличники, ломала тонкие стекла. Врывалась в дом, где темнели потолки, растресканные, из хрупкого дерева шкафы и комоды. Часы с медным маятником и фарфоровым циферблатом мягко, бархатно ухали, и он, не просыпаясь, слушал ночами их сладкие удары. Книги в библиотеке отца, учительский стол с тетрадями, кафельная печка с медной начищенной вьюшкой. И в тихих, струящихся по дому запахах медленно, чудесно течет его детство в предчувствии, в ожидании огромного, небывалого счастья.
Он повернулся к замначальника стройки Горностаеву. Казалось, лицо того выражает тончайшую иронию, едва заметное превосходство. Холеное лицо, которого будто бы и не касались сильные сквозняки, загазованный дымный ветер, ожоги мороза и сварки.
— Повторяю: с прежней психологией покончено! С перекуром в двадцать лет покончено! Пока мы с вами пировали, проедая и пробалтывая добытое для нас богатство. Япония изобрела микропроцессоры, новые формы труда и планирования. Мы не можем оказаться в хвосте у Америки под крышей СОИ. Нас просто сотрут, сгонят с мировой арены. Трудно сейчас? Будет еще труднее! Будут перегрузки. Будут инфаркты. Будут недовольные. Но мы должны догнать этот поезд, от которого отстали, засидевшись на юбилейных торжествах и банкетах. Мы станем работать иначе, пускай хоть кости трещат!
Вода прибывала, глотала венец за венцом. Топила сени, подбиралась к чердаку, где в теплых сумерках, в разноцветных ромбиках света, падающего сквозь наборное оконце, стоял маленький телескоп, висела карта звездного неба. Они с отцом, оба в нетерпении, торопя вечернюю, красную сквозь яблони зарю, ждали ночи, холодного мерцания над липой. Поднимались по шаткой лестнице. Снимали оконце. Выставляли медную застекленную трубку и по очереди с восторгом, с одинаковым наивным восхищением смотрели в радужную туманную бездну.
Он сказал им все это, стоя у стены шестнадцатиэтажного незаселенного дома, к которому, пятясь, подъезжал бетоновоз, вращая квашней. Они молчали, переживая обидные для них укоризны.
Стояли впятером среди строящегося нового города, связанные между собой борьбой и партнерством, неприязнью, симпатией. Одной непомерной заботой. Она, забота, рождала в каждом свою тревогу и боль. Забота стояла среди них и вокруг. Возвышалась над ними шестнадцатиэтажной башней. Смотрела из оконных проемов, из проезжавших грузовиков и бульдозеров, из дымного морозного неба с багровым клубящимся солнцем.
И Костров вдруг подумал: через много лет, стариком, он снова окажется здесь. На лодке выйдет в открытое озеро, причалит к торчащей из его воды колокольне, где в сумерках, в плесках воды — голубой затопленный ангел. Под озерной гладью — родное село, стол под липой, отец с матерью. И в чем он тогда раскается? О чем тогда сокрушится?
— Хорошо, давайте еще заглянем в Дом мебели. Узнаем, как проходит торговля. — Костров, сутулый и хмурый, шагнул по хрустящему снегу.
Дом мебели, стеклянный, с затейливой вывеской, был выстроен на каменном цоколе. В витрине манекен, златолицая дева с рассыпанными по плечам волосами сидела на кушетке, вытянув длинные ноги. Журнальный лакированный столик с раскрытым журналом, зажженный торшер, мебельный, с резными дверцами гарнитур — все говорило о возможном, достижимом уюте.
Костров подходил, не желая обгонять идущую впереди молодую женщину. Осторожно, неловко, в тесном пальто, она взглядывала на золоченый манекен. И Костров, не видя ее лица, угадывал на нем образ материнства. Она шла в магазин подбирать мебель для своего нового, быть может, еще не существующего дома. Чем-то напоминала большую птицу, устраивающую гнездо.