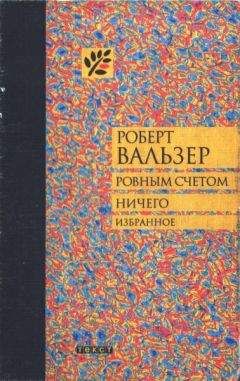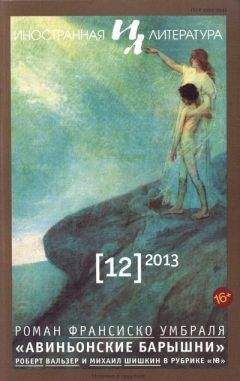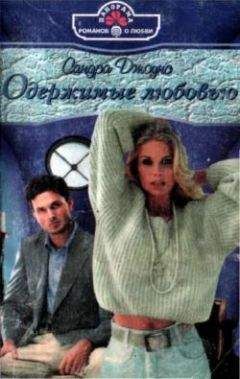Флер Йегги - Счастливые несчастливые годы
И при этом мать бросала вниз цветы, как в театре бросают букеты на сцену? Об этом надо было спрашивать у нее, в то время, когда мы спали в одной комнате, а война закончилась всего несколько лет назад. Моя соседка никогда не произносила слово «Krieg»[7], так же как слова «нацизм» и «Гитлер». Я могла бы у нее спросить: «Ты видела Гитлера?» Для меня ее присутствие было лишь оптической данностью, я воспринимала ее тело как иллюстрацию в книжке, знала ее так же, как знала мой полупустой шкафчик, — мне было известно, что там, в глубине, карандаш и тетрадка. А еще — письмо, какие-то сувениры, носовой платок, ключ. Снабженный номером шкафчик, маленький уютный морг, в котором хранились наши мысли и мечты.
Всякие вещицы, которым мы придавали значение и которые могли не запирать на ключ. А могли и запереть. Этот вопрос дирекция оставляла на наше усмотрение. Ключ — это был символ. Содержание, которое за нас вносили, было весьма высоким, поэтому в него мог быть включен и символ. Однако сам по себе символ не оплачивался, а, следовательно, настаивать на нем было нельзя. Я никогда не пользовалась ключом. Но не потому, что презираю символы: просто у меня не было прошлого, а значит, не было и секретов. Фредерика видит, что шкафчик у меня пустой и незапертый. У меня нет имущества.
Многие из нас ведут дневник. Это тетрадь в переплете, усеянном гвоздиками. Тетрадь запирается на ключик. Они думают, что их жизнь принадлежит им. У моей соседки по комнате красивый голос и хороший музыкальный слух. Во время войны этот голос, должно быть, звучал исключительно приятно, вместе с голосами других, также очень музыкальных девочек. Сейчас я думаю о ней и о дневниках, запертых на ключик, как о мертвецах, словно для меня что люди, что исписанная бумага — все едино. Когда мы думаем о мертвых, кажется, будто мы оставили что-то незаконченным, прервали какой-то разговор и теперь продолжаем его, обращаясь к ушедшим, пусть даже при воссоздании этого несостоявшегося разговора память подводит нас. Лица забываются, характерные черты выцветают, словно на старых картинах, остаются лишь голоса, и начинается нечто вроде монолога, ибо мы не надеемся, что нам ответят. И все же откуда-то получаем ответ. А бывает, что назло нам они хранят безмолвие. Словно строптивые воспитанницы монастырского пансиона. Но мы все же продолжаем говорить. Шевелим губами, а потом спохватываемся: собеседников-то нет. Впрочем, можно ли думать, не облекая мысли в слова? В самом деле, ведь человечество — не букварь, а жизнь каждого человека не составлена из букв. Но я не хотела бы углубляться в подобные рассуждения, которые в каком-то смысле продолжают мои беседы с Фредерикой. Беседы на темы, над которыми я по большей части прежде не задумывалась. Меня обуревало желание вырваться в большой мир, и мысль о смерти связывалась у меня только с прошлым. Будущее представлялось в виде ворот, которые отворяются передо мной, и стен, которые оказываются просто коврами. Фредерика разговаривала сама с собой. Я видела однажды, как она шевелит губами и пристально смотрит в одну точку — похоже, в пустоту. Но как представить себе пустоту? Быть может, она — лживое подобие любого реально существующего места?
* * *
Распорядок в Бауслер-институте был построен на послушании и дисциплине. И Фредерика неизменно служила нам примером. Бывает, задумаешься о чем-то и не заметишь в коридоре начальницу, не поздороваешься с ней. Это простительно — за рассеянность не наказывают даже в тоталитарных государствах. Казалось, Фредерика постоянно пребывает в рассеянности, тем не менее она никогда не забывала поздороваться с представителями дирекции, приветствовать их легким поклоном. Она кланялась и господину Хофштеттеру, мужу начальницы, который держался в тени и занимался бухгалтерией.
Быть может, Фредерика вела двойную жизнь? Ее беседы со мной были настолько серьезными и глубокими, что, можно сказать, выматывали меня, но это еще не все: некоторые ее идеи, быть может из-за того, что она излагала их с необычайной свободой, не укладывались в тесные рамки привычных, умиротворяющих представлений. Как уже было сказано, я в то время была абсолютно невежественна. Знаю, это слово может вызвать улыбку, но Фредерика производила на меня впечатление нигилистки. Что делало ее в моих глазах еще более притягательной. Хладнокровная нигилистка, с беспричинным смешком: вздернутые уголки рта, чем-то напоминающие вилы. Мне уже приходилось слышать слово «нигилистка» дома, во время каникул: там его произносили с презрением. Когда Фредерика заводила подобные беседы, у меня — при том что я их обожала — возникало ощущение какой-то мрачной суровости, тяжеловесной серьезности. Лицо Фредерики становилось необычайно гладким, плоть, покрывавшая кости, казалась ранящей, как лезвие. Глядя на это лицо, я представляла себе лунный серп в небе Востока, который срезает головы спящих. Фредерика блистала красноречием. Она не говорила о справедливости. Не говорила также о добре и зле — хотя рассуждения на эти темы я постоянно слышала от наставниц и от подруг с тех самых пор, как восьми лет от роду впервые переступила порог монастырского пансиона.
Она говорила будто бы ни о чем. Слова летели, как на крыльях. Но то, что оставалось после этих слов, было бескрылым. Ни разу не произнесла она слово «Бог», и сейчас я с трудом заставила себя написать это слово — так неукоснительно обходила его молчанием Фредерика. А в других пансионах, где мне довелось жить начиная с восьми лет, оно произносилось ежедневно по многу раз. Быть может, это даже не слово. В чем разница между словом и именем? Фредерика утомляла меня. Даже во время отдыха на лужайках и в рощицах, даже когда я делала вид, будто разглядываю прожилки на листьях, которые мяла в руках (если листья еще не были сухими), или проверяю, не сидим ли мы возле муравейника. Фредерика свертывала себе ароматические сигареты. Раздумья о серьезных вещах я откладывала на потом, до того момента, когда попаду в большой мир. Фредерика считала, что мне недостает собранности. Я находилась в интернате уже седьмой год. Она — только первый, это совсем другое дело. Для нее все было внове. Возможно, она уже пережила любовное приключение или привязанность, ведь раньше она не жила в пансионе, а там, за стенами, выбор огромный, как на рынке.
Характер у Фредерики был необузданный. У меня необузданность выражалась только физически — не могу подобрать другого слова. Мне, уже большой девочке, иногда хотелось побороться, подраться. Я могла бы схватить за шею мою соседку-немку. Эта шея томно изгибалась передо мной, но я не поддавалась искушению, вела себя как воспитанный человек. Я могла бы наброситься на нее, просто чтобы поиграть, помериться силами. «Tu es un enfant»[8]. Мне хотелось совершить убийство, просто чтобы поиграть — и поэтому я была «un enfant»? Вся сила — в идеях, говорила она. Я отвечала, что сама это знаю, что в этом никто и не сомневается, но физические упражнения тоже важны. Они нас развивают, говорила я.
После недолгой дискуссии я признавала ее правоту. Запах от сигареты был слишком сильным, приходилось отворачиваться. Что за табак хранился у нее в серебряной шкатулке с выгравированными инициалами на крышке? Испанский. С юга Испании. И поскольку все, что она рассказывала, вставало у меня перед глазами, я увидела берег Испании, прямо у лужайки плещется море, с корабля сходит арапчонок в тюрбане, вроде тех, что сидят на верхушке колонны в витринах у антикваров, и протягивает Фредерике пакет с табаком.
Она босиком, в длинном просторном одеянии, и все это происходит в далеком южном краю, где я никогда не была. Она, впрочем, тоже — так мне кажется.
«Собственником имущества считается тот, кто реально располагает этим имуществом». Она удивленно взглянула на меня, очевидно, то, что я сказала, поразило ее. Откуда я это взяла? Я объяснила, что так написано в Гражданском кодексе Швейцарии. Это просто закон.
Потом мы возвращались в Бауслер-институт, и беседы наши обрывались. Она снова входила в образ безупречной воспитанницы пансиона, на такую дирекция вполне могла положиться, да что там дирекция, целый народ мог бы положиться на нее, даже если на самом деле народ не полагается на человека, а следует за ним. Фредерика не дорожила жизнью.
Студентка Фредерика не вызывала симпатии у других учащихся, я не помню, чтобы какая-нибудь девочка подошла к ней и разговаривала больше пяти минут. В ее ячейке никогда не было писем. Ее избегали, потому что она внушала слишком большое почтение. Если бы я увидела, как она беседует с кем-то, появилась бы возможность узнать, что именно может привлечь или заинтересовать ее в человеке, но поскольку я, постоянно наблюдая за ней, ничего такого не заметила, то мне оставалось с некоторым злорадством сделать вывод: идеи интересуют ее гораздо больше, чем род человеческий. Пусть даже в интернате неправомерно говорить обо всем роде человеческом. Несколько раз, за обедом, я слышала, как она смеется этим своим беспричинным смехом, который преследовал меня даже ночью. Я оборачивалась — все лица вокруг оставались серьезными.