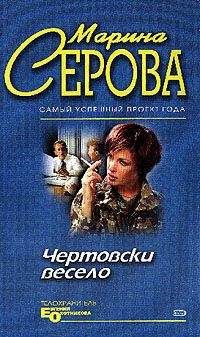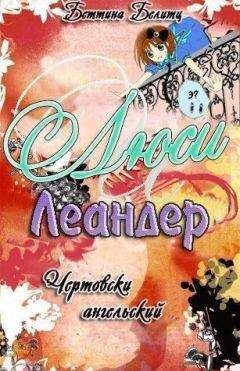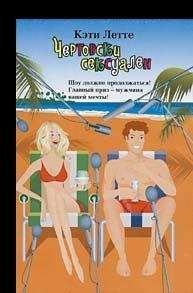Инна Александрова - Свинг
Теперь им было по двадцать пять, и он звал ее. Как чумовая, едва отпросившись у Бориса Александровича, бросилась в Москву. Комната на Большой Ордынке. Она так и не поняла, кто пустил его, кто дал ключ. Через столько лет разлуки они были вместе, они были вдвоем…
Теперь она уже ничего не боялась. Он, только он — ее возлюбленный, ее мужчина, ее муж. Они вспоминали, как когда-то, кокетничая — капризы ее иначе не назовешь, — заставляла его смотреть на себя «влюбленными» глазами. Теперь его глаза неотрывно следовали за ней. Они говорили, вспоминая все самые мельчайшие подробности их прошлой жизни, но останавливались как вкопанные, когда доходили до ее ареста и их теперешнего положения. Она понимала, даже точно знала: что-то есть, что-то мешает их дальнейшей судьбе, но какое это имело значение? Он позвал ее, он был рядом, он любит…
Она чувствовала, как преображается под его взглядом. Она прикрывала глаза длинными темными ресницами, стараясь не думать ни о чем хотя бы в эти часы. Вволю настрадавшись, знала: у счастья нет завтрашнего дня. У него нет и вчерашнего. У него есть только настоящее — и то не день, а мгновение. Это очень верно у Тургенева…
Она изведала, она познала теперь главное в любви — страсть. Нет, это не грязь. И притворяться не нужно. Это огонь. Огонь, очищающий и облагораживающий, делающий душу живой. А Шура пел. Пел только для нее:
И поверь, во вторник или среду —
Точно я и дня не назову —
Прилечу, приду к тебе, приеду
И скажу, целуя наяву…
Только он умел так перебирать струны, только его шелковые темно-русые волосы могли такой огромной копной свешиваться к гитаре, только его голос мог быть таким тихим, нежным и чистым.
Она уехала из Москвы к концу третьих суток. Через месяц, уже из дома, он написал ей, что женат и на днях стал отцом двойняшек.
Теперь усердие ее в работе доходило до самоистязания. Что другое могло спасти? Она защитила диссертацию на год раньше срока. Все вошло в какое-то определенное русло. А душа была пуста. Пуста и озлоблена. Понимала — озлобление диктует самое дурное, но ничего не могла поделать.
Много веков назад Публий Папилий, римский поэт, сказал: богов создал страх. Чтобы покорить людей, сделать из них послушных рабов. Боль, страдания вызываются чем-то реальным. Страх родится при их предвосхищении. Он возникает, когда человек чувствует над собой враждебную силу, которую не может преодолеть, когда не знает, что ждет его впереди. Страх доводит до ужаса, до подавленности, до оцепенения. Страх родит безысходность. Она понимала: все разрушающая машина, созданная Сталиным и именуемая страхом, теперь, после его смерти, только чуть-чуть зашаталась.
Боятся все — снизу доверху и сверху донизу. Нет никого, кто бы не боялся. Каждый, хоть сколько-то думающий, знает: завтра и он может попасть под колесо этой машины. Спастись, убежать, спрятаться невозможно. Некуда. Нужно или кончать жизнь, или пытаться находить в этом насилии, угнетении, попрании какие-то островки, за которые можно уцепиться, держаться, не упасть. Таким островком могла быть работа, только работа.
Конец пятидесятых. Она ходит по инстанциям. Надо перевозить отца с Феликом. Но где жить? Долгими, бесконечными очередями выстаивает у дверей приемных. Нужно доказать, что отец жил в этом городе с двадцатого, имел комнату. Наконец — о счастье! Бумага подписана. Освободилась восемнадцатиметровка в бывшем доме Кекина. Так близко от университета. Школа для Фелика тоже рядом. Отцу они найдут работу.
Неуклюжий, эклектичный, их дом, как корабль, разрезает надвое улицу. Четвертый этаж. Окно выходит во двор, на склады магазина. Комната в приличном состоянии. Ремонт нужен небольшой.
Они вместе. Фелику почти четырнадцать. Глазастый, длинный, худенький. К отцу привязан до боли, до слез. Работу отцу находят только в промкомбинате. Конечно, он совсем отстал за эти долгие годы. Забыл, когда открывал книжки по химии. Катать пимы и шить телогрейки можно и без книжек. Все, что когда-то так хорошо начиналось — институт, преподавание на рабфаке, пошло псу под хвост. Отец никогда об этом не говорит, но молчание многого стоит. Он плохо спит.
«Химиченье» в промкомбинате поставлено на самую широкую ногу. Надо либо вместе со всеми, либо… Поэтому они счастливы, когда через пол года отцу предлагают место мастера в ПТУ. Он будет учить ребят кожевенному делу, технологии кожевенного производства. Училище при промкомбинате.
Только весной семидесятого они получают, как семья реабилитированного, квартиру. Две маленькие несмежные комнатки. Фелик, стройный, красивый, двадцативосьмилетний, как две капли воды похожий на маму, заявляет: подал документы в армию, в кадры. Грамотные авиационные инженеры и там нужны. Она понимает: он делает это потому, что хочет, чтобы она вышла замуж. Считает, что они с отцом «заели» ее молодость, ее личную жизнь. Глупый мальчик. Разве можно «заесть» то, чего нет…
А нет у нее ничего, кроме свидания с Шурой в феврале шестьдесят четвертого. В их городе какое-то юридическое совещание или съезд. Шура живет и работает на Урале. В места их юности не вернулся. Преподает в институте. Доцент. В профессора, как мечтал Шалимов-старший, не вышел. Девочки-двойняшки уже большие, жена учительствует.
На дворе февраль, а она не может пригласить Шуру домой: отец ненавидел Шалимова-старшего, не жалует и Шалимова-младшего: считает виновником Майиного одиночества. Остается одно: две серии какого-то фильма в теплом кинозале, потом кафе до момента, когда уборщица спрашивает, не собираются ли они тут заночевать, потом улицы — улицы города, ее родного города…
Она показывает ему дом, где родилась, и вспоминает, как с мальчиком ее детства Гогой удирали на Черное озеро. Заглядывают в каждый уголок университетского двора, где два корпуса увешены мемориальными досками в честь самых знаменитых химиков. Спускаются вниз, к озеру Кабан, и идут к мечети Марджани — самой старой и красивой. В темноте ночи смотрят вверх, на пустую площадку, с которой муэдзин созывает верующих на молитву. И тогда, неожиданно для Шуры и для себя, она спрашивает, что сказал бы он, о чем поведал бы миру, если бы Аллах вознес его сюда, на эту высоту.
Лицо Шуры становится неузнаваемым. Она видит его глаза, наполняющиеся слезами, его дрожащие губы. Он плачет. Плачет навзрыд. И успокаивается только тогда, когда она начинает гладить его лицо, греть в руках его холодные пальцы.
Да, у него есть все: работа, жена, дети. У него нет одного — любви. И если бы Аллах вознес его на муэдзинову площадку, он сказал бы только одно: как горько, как страшно, как безысходно, когда предаешь любовь…
…Господи! Столько лет прошло, а она все помнит. Все до мелочей. Так за что же вчера виноватила ее эта девочка?
Что сделала она в жизни такого, за что можно так упрекать? Может, за отца, который шестнадцатилетним юнцом пошел защищать революцию? Так он же поверил. Всем сердцем поверил, что будет строить справедливую жизнь — разумную, достойную. Верили старики в светлое будущее. Верили. Ждали его. Надеялись.
А они? Ее поколение? Ни во что уже не верили. Но руки на собраниях тянули. Тянули и врали. Значит, есть девочке за что ее виноватить…
А потому остается одно — попросить, как попросила когда-то Анна Андреевна Ахматова в Фонтанном Доме:
Ты все равно придешь — зачем же не теперь?
Я жду тебя — мне очень трудно.
Я потушила свет и отворила дверь
Тебе, такой простой и чудной.
1990 г.
Я не плакала в тот мартовский день
Девочка моя! Ты прочтешь эти строчки, когда коллеги мои — эскулапы — будут мудрствовать надо мной. Что делать? И меня Всевышний позвал на расправу…
Я не зову смерть, но и не боюсь ее. И если уж совсем честно — немного устала. Одно, только одно гложет душу: ты не знаешь всей правды обо мне и о себе. Не сказала раньше. Нельзя так уйти.
Доченька моя! Я благодарна тебе за ум, такт, выдержку. Ты никогда не пытала меня вполне оправданными для нашей жизни вопросами: кто твой отец, почему у нас нерусская фамилия. Ты ни разу не упрекнула меня горьким словом «безотцовщина». Ты понимала: в моей жизни было такое, о чем человек не хочет вспоминать, старается забыть навсегда. Я счастлива, что судьба одарила меня тобой…
Мы часто говорили о моем раннем детстве — до войны. Ты знаешь, мои отец, мать, дедушка — бабушки уже не было — жили на Госпитальной улице в Лефортово, во дворе, во флигеле. Флигеля этого давно уже нет. Я очень любила наши с дедом прогулки в Головинском саду, особенно по липовой аллее, которая шла вдоль Яузы. Какое счастье было, когда в жаркий летний день дед вел меня купаться на пруды, а потом мы долго сидели в гроте с белокаменными колоннами.
Иногда ходили на Кадетский плац — это теперь Краснокурсантская площадь. Там маршировали и пели красноармейцы. В погожие дни шли к Екатерининскому дворцу, где в девятнадцатом дед слушал Ленина.