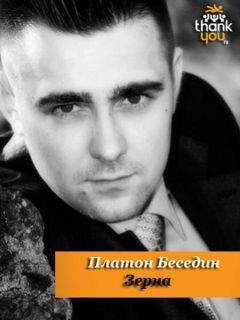Платон Беседин - Книга греха
Её изящные пальцы нежно гладят ступни трупа. Пробираются выше, массируя каждый участок мёртвого тела. Я замер. Она облизывает свои губы, а её левая рука где-то между её ног. Лицо раскраснелось, это видно даже при свете свечи. Когда она доходит до мошонки трупа, то начинает стонать. Стон переходит в рычание. Глаза прикрыты. Когда её рык становится особенно неистовым, она оттягивает член трупа и резко взмахивает скальпелем. Сморщенная, мёртвая плоть остаётся в её руке. Она обмякает и открывает глаза.
Говорят, что внешний мир есть отражение нашего внутреннего мира. Если я вижу такое, то неужели я настолько психопатичен?
Она целует трофей и, смотря на меня в упор, шепчет:
— Вот это мне нравится больше всего.
Мне вновь хочется выпить спирта, перемешанного с газировкой.
Глава четвертая
Из носа Андрея течёт кровь. Большими, красивыми каплями, похожими на куски рубина. После ночи, проведённой в морге с Инной и трупами, кровь напоминает о том, что рядом есть жизнь.
По моим расчётам, Андрей должен был умереть неделю назад. Такую ставку я сделал. Мы организовали тотализатор. Тот, кто угадает день смерти Андрея, получает выигрыш. Но пока счастливчика нет.
Причиной носовых кровотечений могут стать заболевания крови. Или застойная гиперемия при болезнях легких, сердца, печени и почек. Наверное, Андрей этого не знает. Если бы знал, то непременно умер.
— Водяру будешь? — ко мне подходит Вовчик.
— Нет, — восемь часов утра.
— Бывает, — он смотрит на меня как на психа.
Подставляют стаканы. В ноздри ударяет мерзкий запах спирта. После выпитого вчера мне становится тошно.
— За работу, падлы! — орёт подошедший бригадир. Когда кузов машины набивается до отказа, я усаживаюсь в салон рядом с водителем. Хрюкает выхлопная труба, и мы трогаемся.
— Такую тёлку вчера снял, — ржёт водитель, обнажая кривые, гнилые зубы, — домой привёл, а резины не оказалось. Прикинь?
— Бывает.
Эту историю я слышал много раз. Все наши разговоры о женщинах и попойках. Один раз я пробовал общаться о Достоевском. После этого ко мне приклеилась кличка «Достоевский», вместо прежней, отфамильной, «Грех».
Каждый день мы ездим одними и теми же дорогами. По одним и тем же местам. Развозим алкоголь. Встаёшь в шесть. Начинаешь в семь. Прибавьте ещё девять часов абсолютной рутины. Так живёт большинство из нас. Или существует, как вам угодно.
Первая точка нашего маршрута — бар в спальном районе. Половина девятого утра. У входа, словно прихожане перед церковью, опустив головы, толпится кучка полупьяных людей. У бордюра, залитого кровью и блевотиной, валяется женщина, лицом вниз. Возраст не определить. Я вижу жуткие залысины на её голове.
Причиной женского облысения может стать химический ожог. Или соединения таллия. Или микроб токсоплазма, который водится в сыром мясе. Возможно, она была не слишком придирчива к закуске.
Перед глазами мельтешит хозяин бара, размахивающий накладными:
— Почему не весь заказ привезли?
— Вы за прошлый не рассчитались, — отвечаю я и замечаю красный бинт на его запястье. — Что с рукой?
— Так, — он по-детски кривит лицо, — порезался утром, а кровь не останавливается. Какая-то падла оставила стекло на лестничных перилах!
Я мысленно поздравляю его с возможным обретением вируса. Капли крови просачиваются через бинт и капают на асфальт. Хозяин бара вновь чертыхается и убегает. Слишком много крови перед моими глазами.
Согласно каббале, кровь есть носитель души, по-еврейски, нефеш. Гомер: «Из зияющей раны теснимый Дух излетел». Возможно, человек умирает вовсе не от потери крови, а от потери души.
Разгрузившись, мы едем дальше. Тридцать шесть точек. Сотни бидонов и коробок. И везде одни и те же опухшие лица.
Социологи утверждают, что в мире, поделенном корпорациями и кланами, основная причина массовых погромов, бунтов — не агрессия или жажда наживы, а желание поменять привычный уклад жизни. Желание запустить своеобразный генератор случайных чисел. Где вместо чисел — судьбы людей. «Чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы», как молвил Христос.
Наверное, это движет мной, когда я, вернувшись с маршрута, взбираюсь на ящик в бараке и патетически вопрошаю сидящих:
— Что же мы делаем?!
— Ждём бригадира, — удивлённый голос из угла.
— Ждём! Опять ждём! — кричу я, опрокидывая в себя остатки утренней водки. — Вы разве не заметили — мы постоянно чего-то ждём? Посмотрите на себя! Кто вы? Что вы? Где вы? Скот! Нет хуже — никто!
— И тут Остапа понесло…
— Господи, вы хоть раз думали о том, чтобы жить? Не существовать — жить! Как люди! Вас же тошнит от самих себя! Утро с похмела! Скотская работа! Вечера в блевоте!
— Заткнись! — ко мне подходит Вовчик. — Сиди тихо!
— Тихо сидеть! Так мы привыкли! Привыкли жрать похлёбку и не высовываться. Собаке — собачья жизнь, да? Вы пробовали бороться за счастье? Пробовали сорваться с цепи и вырваться из вшивой конуры?
— Последний раз говорю, — Вовчик разозлён, — завали ебало!
— Вы скот!
Первый удар сбрасывает меня с ящика. Второй разбивает гематому под правым глазом. Закрываю лицо руками и получаю тычки в живот. Бьют не сильно. Так, чтобы просто заткнулся.
— Мы же были детьми! Счастливыми, прекрасными! А теперь? К чему мы идём? Что оставим после себя?
— Вы что тут за блядство развели?! — голос бригадира.
— Истерика у человека! — удары прекращаются.
— Кто?
— Достоевский!
— Встань! — бригадир подходит ко мне. Я поднимаюсь. — Что произошло?
— Разве мы рождены для этого? — я обвожу помещение взглядом. — Для вечного рабства?
— Опять ты за своё, Достоевский, — бригадир расплывается в улыбке. — Ты рождён для другого. Не буду задерживать! Ты уволен!
IIПочти у каждого маньяка, злодея, детоубийцы была своя семья. Родители, родственники, близкие. Они приходили к ним на ужин, здоровались, лобзались и резали праздничный пирог. Точно так же, как резали своих жертв. Пили вино из высоких бокалов, обнажая в улыбке зубы. Точно так же, как пили кровь убиенных.
Я думаю об этом, когда иду на встречу со своими близкими. Тщательно готовлюсь, словно актриса перед съёмками: замазываю лицо тональным кремом, пудрюсь, чтобы скрыть синяки и ссадины. Выходит не очень, но это лучше, чем ничего. Ощущение такое, будто гримируешь самого себя перед тем, как улечься в открытый гроб. Нужно выглядеть соответствующе — ведь в загробный мир тебя проводят только близкие.
У моего деда сегодня день рождения. Пожалуй, он не хотел бы знать, какой по счёту. Важно другое — вся семья будет в сборе. В том числе и я, золотой гвоздь программы.
Перед дверью квартиры чувствую, как весь исхожу испариной. Пот течёт по пудре и тональному крему.
— Господи, сынок, что у тебя с лицом? — это мама.
— Матерь Божья, Данечка, ты что? — бабушка.
— М-да, — дед.
— Ты где шляешься? — отец.
Мне не хочется лгать, чтобы оправдать себя. Я просто молчу. Молчание помогает избавиться от оправданий. Я всё равно не буду для них другим. Они сами слепили мой образ, выносили в своём животе вечной заботы и опекунства, выкормили через плевру расспросов и претензий. Вот он я, плод ваших бессонных ночей и попечительств, вот он я, дитё женского воспитания, — с разбитым лицом, мучающийся каждодневным похмельем, одинокий и ищущий путь забыться от всего этого кошмара.
Мы за праздничным столом, заставленным пиалами с маринованными грибочками и солёными огурчиками, блюдами с мясной и сырной нарезкой, бездонными чашами с оливье и салатом по-гречески, тарелками с рыбой в кляре и фаршированными свининой баклажанами. Посередине стола — жареный с яблоками гусь, возвышающийся над нежным картофельным пюре.
Первый тост. За именинника. Сейчас дед выпьет рюмку. Бабушка скажет ему, не пей больше, Пётр, у тебя диабет. Дед и сам это знает, но бравирует, опрокидывая в себя рюмку водки. Завтра его сахар подскачет. Для него это будет звучать как приговор.
Не в состоянии пить, не в состоянии трахаться, не в состоянии спать — старость. Её невозможно победить или приручить. Но эти люди, мои бабушка и дедушка, они из другого поколения — поколения сильных людей, проживших настоящую жизнь. В чём же их жизнь теперь? Говорят, что в детях.
Мой отец ненавидит своего отца. Я презираю своего отца. Преемственность поколений.
За праздничным столом кислые лица. Даже квашеная капуста на моей тарелке выглядит свежее. Только мать пытается шутить. Одни и те же беседы. Одни и те же фразы. Всё расписано на часы вперёд.
Сейчас будет тост за детей. За меня. Начнут спрашивать и корить, умолять и угрожать. Я привык к этим вопросам, как к магнитофонной записи.