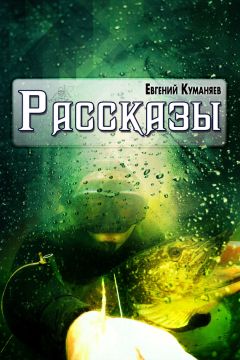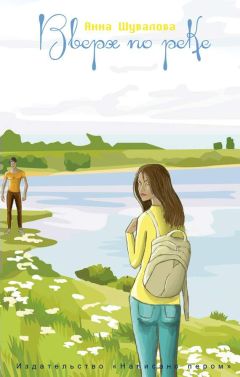Владимир Тендряков - Чудотворная
Жена Мякишева тихо плакала, утирала слезы скомканным платочком. Сам же Мякишев с кисленькой, виноватой улыбкой просительным тенорком оправдывался:
- Я так считаю: оттого и непорядки в жизни, что люди от религии отступились. А без веры в душе никак нельзя жить.
- Истинно. Забыли бога все, забыли. По грехам нашим и напасти, - скромненько поддакивала со стороны Жеребиха.
- Вера-то нынче вроде клейма какого. Меня взять в пример... Мне бы не днем полагалось к вам, а ночью, потаенно, чтоб ни одна живая душа не видела. Человек я на примете, вдруг да потянут, обсуждать начнут, косточки перетирать. Легко ли терпеть...
- Ничего, за бога и потерпеть можно, - отозвалась от шестка бабка.
- Так-то так, - не совсем уверенно согласился Мякишев. - Только чего зря нарываться. Уж прошу, добрые люди, лишка-то не треплите языком, что-де я сам жену приводил.
Заполнив избу аппетитным запахом, бабка с грохотом поставила на стол сковороду, пригласила Родьку:
- Садись, золотце, ешь на доброе здоровье. - И, повернувшись к гостям, стала расхваливать: - Он у нас не какой-нибудь неслух, - чтоб лба не перекрестил, за стол не сядет. Помолись, чадушко, господу.
Бабка мельком скользнула взглядом. Родька лишь на секунду увидел ее желтые, в напряженно собравшихся морщинах глаза, но и этого было достаточно, чтоб понять: ослушаешься - не будет прощения.
- Ну, чего мнешься, сокол? Садись за стол, коль просят. Ну... садись да бога помни.
Правая рука Родьки, тяжелая, негнущаяся, с деревянным непослушанием поднялась ко лбу. За его спиной, громко всхлипнув, запричитала Мякишиха:
- Родненький мой, помолись за меня, грешницу. По гроб жизни благодарить буду...
Родька съежился...
10
Никогда еще так не радовало синее небо, несмелый ветерок с лугов. Вырвался из дому, от бабки, от Жеребихи, от Мякишихи, от безногого Кинди - подальше от села! Нате вам всем, ищите ветра в поле!
За усадьбами запыхавшийся Родька пошел медленнее.
Теплый рыжий весенний луг лежал под солнцем. Маслянисто-черная дорога, выплясывая по холмам, убегала к лесу. Лес, пока холодный, лиловый, то там, то сям краплен мокрыми семейками темных елей. Он скоро прогреется, наглухо затянется листвой, из его глубины поплывут уныло-нежные «ку-ку».
Нет, нет, не верит Родька, что все изменилось. Мало ли чего не случается дома. День, другой - и все пойдет опять так, как шло прежде. Надо немного потерпеть и побольше думать о другом, приятном...
На днях в клубе покажут новую кинокартину. Афиши уже расклеены: парень в красноармейской шапке времен гражданской войны, позади него дым и огонь от пожаров, скачут люди на лошадях с шашками. Это кино о Павке Корчагине. Родька знает, что про него написана целая книга. Васька Орехов зимой взял ее в библиотеке и дал Родьке только на три дня. Разве за три дня успеешь прочитать до конца, когда книга-то толще учебника? Сам-то Васька «Робинзона Крузо» целую неделю у себя держал. Родьке из-за него от библиотекарши попало... Мать всегда дает деньги на кино и теперь не откажет. Это у бабки пятачка не выпросишь...
Скоро экзамены. Каждый год после экзаменов в школе бывает вечер самодеятельности. К нему давно уже начали готовиться. Все село приходит смотреть. Юрка Грачев из седьмого класса играет на баяне. Венька Лупцов и Гришка Самохин покажут смешную пьеску, называется «Хирургия». Гришка дьячка играет, которому зуб рвут клещами. Он может, иной раз начнет рассказывать - хзатайся за животики.
Родьке бы хотелось сыграть матроса, чтобы гранаты на поясе, винтовка на плече, на голове бескозырка с ленточками. Но таких пьес что-то не отыскали... Зато он выучил стихотворение «Смело, братья, с ветром споря...» Стихотворение подходящее - о море, о буре... Конечно, на вечер придет председатель Иван Макарович, он моряк, ему понравится. Может, у Ивана Макаровича мичманку попросить на выступление? Выйти в матросской фуражке на сцену и прочитать: «Будет буря, мы поспорим и помужествуем с ней...» Только, наверно, мичманка-то Ивана Макаровича будет великовата для Родькиной головы.
Пусть дома икону обхаживают, наплевать. Он, Родька, как-нибудь перетерпит, будет меньше дома бывать, да и терпеть-то, наверно, придется не век. День-другой, глядишь, все утрясется.
Далеко, на другом конце луга, Родька увидел несколько маленьких фигурок. По канареечно-желтой рубахе, ясным пятнышком горевший средь однообразно рыжей земли, он узнал Ваську Орехова. С ним, видно, и Пашка Горбунов, и Венька Лупцов - вечная компания.
Не успев задуматься, что же они там затеяли, какое развлечение ждет его, Родька без дороги, ломая остатки прошлогоднего репейника, попадая ногами в расквашенную весенней водой дерновину, бросился бегом.
Ребята топтались на берегу залитого водой плоского овражка. Двое из них были без рубах, только Васька Орехов продолжал суетливо прыгать в своей яркой, канареечной.
- А, вот оно что, купаться надумали!
В реке вода еще мутная, неустоявшаяся, наверняка холодная до ломоты, сохранившая даже запах растаявшего снега, - купаться нельзя. Зато высыхающие луговые озерца, оставшиеся после половодья, уже прогреты солнцем.
- Э-э-эй! - закричал Родька. - Че-ерти! Меня обождите!
Длинный Пашка Горбунов стоял у самой воды, втянув голову в плечи, на окрик недовольно оглянулся. Венька Лупцов, выгнув смуглую гибкую спину, сидел на корточках возле одежды, поджидал бегущего Родьку с любопытством и удовольствием. На его чумазой физиономии выражалась надежда: может, Грачонок первым нырнет? Васька Орехов в своей канареечной рубахе, но без штанов смущенно стоял в стороне, похлопывал себя по лиловым коленкам.
Родька подбежал, бросил с размаху картуз на землю.
- Топчетесь? Небось, мурашки едят?
- Сам-то, поди, только с разгону храбрый, - ответил Венька.
- Эх!
Родька скинул пиджак, рывком через голову стащил рубаху, сел на землю, принялся с усилием снимать с ноги мокрый сапог.
- Эх, вы! Ушли и не сказались...
Но тут он заметил, что Пашка Горбунов, слепо щурясь, сделал шаг от воды. Венька Лупцов, впившись в грудь Родьки черными, настороженно заблестевшими глазами, привстал у одежды. У Васьки же удивленно, кругло, глупо открылся рот.
Полустянутый сапог выскользнул из рук; только тут почувствовал Родька висящий на шее крест.
Первым опомнился Венька. Он насмешливо сощурился, показал мелкие, плотные, как горошины в стручке, зубы, спросил:
- Ты для храбрости повесил это или как?
От бросившейся в голову крови зашумело в ушах, перед затуманенными глазами по рыжему лугу поплыло расплывчатое пятно, желтое, под цвет Васькиной рубахи.
Родька не помнил, как вскочил на ноги. Ковыляя на полустянутом сапоге, он двинулся к Веньке. Васька Орехов, стоявший все еще с открытым ртом, в одной рубахе, без штанов, взглянул в Родькино лицо, зайцем прыгнул в сторону. Родька увидел, как вытянулась подвижная Венькина физиономия, как в черных глазах заметалась какая-то искорка. Венька не успел подняться. Родька ударил его с размаху прямо в испуганные черные глаза.
- За что? - крикнул тот, падая на спину.
Родька шагнул, запнулся о полустянутый сапог, упал прямо на Веньку, вцепился в него.
Васька Орехов, не отрывая округлившихся глаз от дерущихся, принялся, путаясь и оступаясь, натягивать штаны. Пашка Горбунов бросился к ним, стал хватать длинными цепкими руками за голые плечи.
- Сдурел, Родька, сдурел! Что он тебе сделал?
Вырвавшись из рук Пашки, Родька не поднимая головы, как-то странно горбатясь, подхватил с земли свой пиджак и рубаху, почти бегом, волоча ненатянутый сапог, заковылял прочь.
Никто из ребят не стал его догонять. Стояли на берегу озерца, глядели вслед. Венька Лупцов вытирал кулаком кровь под носом.
Шелковый шнурочек у медного крестика был прочен. Родька рвал его с остервенением, не чувствуя, как врезается он в шею. Наконец разорвал, бросил крест в сторону.
11
До сих пор весь мир для него делился на три части: дом, улица, школа.
Дома противно. Бабка теперь куска хлеба не даст, если не перекрестишь лба.
На улице тоже не показывайся. Венька Лупцов с Пашкой и Васькой уже, верно, разнесли по селу, что он, Родька Гуляев, как какая-нибудь старуха, носит на шее крест. Попробуй только показаться - проходу не дадут, засмеют.
А школа?.. Ведь и в школе все будет известно!
Нет Родьке места, некуда спрятаться, некому пожаловаться. Даже мать не защитница.
Родька сидел на берегу, забившись в глубину кустов.
Ему было хорошо видно все село: темные тесовые крыши, железная, давно не крашенная крыша сельсовета, красная кирпичная стена артели «Кожзаменитель».
В стороне от села церковь. Она древнее этих домишек под тесовыми и железными крышами, но издалека не видно, чтоб старость обезобразила ее: белые стены тепло сияют на закате, ржавые купола и колокольня словно врезаны в вечернее небо. Более зрелый, чем Родька, человек, наверно бы, почувствовал в этой одинокой церкви надменность и вековое презрение к скученной толпе однообразных домишек. Родька сидел, не двигаясь, окоченев от горя, глядя заплаканными глазами на село. Сначала все крыши слились в одну сплошную темную массу. В залитых сумерками ложбинках лег синий мутный туман. И наконец темнота совсем скрыла дальний лес, село, туман. Один за другим, неприметно - не усторожишь, когда появляются, - затеплились огоньками. Долго еще упрямилась церковь, долго сквозь ночь белели неясным пятном ее стены.