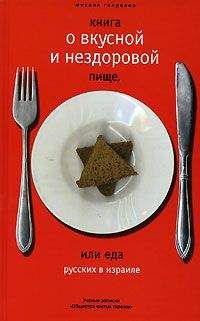Григорий Бакланов - Карпухин
— Гражданин следователь, а я ведь не пил. Я ее вообще не пью. Карпухин растерянно и даже глуповато как-то улыбнулся.
Никонов отвел глаза. Ему стыдно было сейчас за Карпухина. И самому неловко, что он слышит и видит это.
— Я не говорю, непременно ее. Не обязательно водку пить. За рулем достаточно и кружки пива.
— И пива не пил. Честное слово!
— Слушайте, Карпухин, не надо! Нет таких людей, чтоб вообще не пили. Понимаете? Нет! А среди шоферов тем более. Я тоже пью. Не на работе, конечно, но случается. Не пьет только сова. И знаете почему? — позволив себе вольность, Никонов заранее улыбался и не замечал оглушенного вида Карпухина. — Не пьет она потому, что днем спит, а ночью магазин закрыт.
И он засмеялся, ожидая на свою такую дружескую откровенность если не благодарности, то ответной улыбки хотя бы. Но Карпухин только кивнул опять, ничего, видно, не поняв, и снова облизал губы.
— Поймите меня, Карпухин, правильно. Вслушайтесь и постарайтесь понять. Между нами установились отношения доверия. Так мне по крайней мере кажется. — Он подождал подтверждения, но Карпухин все так же смотрел на него. В растерянных его глазах металась загнанная мысль. Никонову неприятно стало. Не за себя, конечно, за него. — Это очень важно, чтоб я вам доверял. Для вас важно. Так не разрушайте же этого доверия.
Вот тут Карпухин по-настоящему испугался. Что было, с тем еще поспорить можно, отречься. А вот если не было, как доказать? Приставят, и не докажешь ничего.
— Не пил я, честное слово. Потому что нельзя мне!
Никонов поморщился в душе. Вот так и в те разы было. Люди охотно, с мельчайшими подробностями, не оставлявшими сомнений, что говорят правду, рассказывали о прошлых делах, за которые наказание им уже не грозило. И эти же люди потом начинали бессмысленно, неуклюже врать.
— Если б каждый руководствовался словом «нельзя»! Тогда б и суды не нужны были, и нас, грешных, можно было бы распустить по домам, — сказал Никонов, не замечая некоторой доли кокетства в своих словах.
— Я ее сам боюсь, потому что себя знаю, — в голосе Карпухина сказалась явная неуверенность, когда он заговорил об этом. Но он взглянул на следователя и поборол себя, как бы решив, что ому нужно сказать, не опасаясь. — Было у меня однажды. Когда из заключения вышел. Здорово зашибал тогда. Меня даже в слесаря переводили на полгода. Может, и из парка выгнали бы, если б не механик колонны. А вот полтора года уже в рот не беру. С тех пор как жене обещал. Она идти за меня не хотела. Молодая, а тут сидел уже, пьющий. Боялась идти. Но я ей твердо сказал. На свадьбе своей и то не пил. Вы на автобазе спросите, вам скажут. Я на праздник и то лимонадом чокаюсь. Потому что сорваться боюсь, знаю себя.
Никонов заколебался. Он чувствовал, что опять верит ему. Ведь мог же Карпухин ссылаться на то, что не было экспертизы, что все основывается только на свидетельских показаниях. Два раза судим человек, опытный, кажется, мог бы усвоить истину, без которой, как без молитвы, тесть Никонова и спать не ложится, повторяя отдохновенно: «Концы в воду — пузыри вверх!» А этот рассказывает про себя такое, что и оправданием служить не может, что легче всего против него же использовать, если захотеть.
Никонов очень внимательно посмотрел ему в глаза. Хитер он или в самом дело прост? Из следовательской практики Никонов знал десятки известных примеров, когда все поначалу сходилось, обличая в невиновном преступника. И только ум, смелость таланта и кропотливейшая работа помогали следователю временами интуитивно пройти обрывавшийся путь от догадки до открытия истины, которая казалась уже навеки погребенной. А может быть, это и есть такое дело, где на первых порах ему суждено одному быть против всех? Потому против всех, что в городе даже дети знали, что шофер, сбивший Мишакова, был пьян. Что угодно можно было ставить под сомнение, пытаться опровергнуть или, наоборот, доказать, но это и доказывать не требовалось. Это было несомненно для всех. Но Никонов уже зажегся.
— Ну что мне с вами делать, Карпухин? Поймите, я хочу вам верить. Хотел бы, во всяком случае. Но факты ведь против вас. Факты куда девать будем? В карман же не спрячешь их. Ну, ладно, кажется, первый раз в жизни вам повезло: следователь добрый попался. Давайте вместе разбираться. С самого начала, шаг за шагом разберем всё.
ГЛАВА IV
В будний день, в зной, городская площадь с утра безлюдна. Пропылит грузовик, растрясенный по деревенским ухабам, звенящий бортовыми цепями, весь громыхающий, как пустая железная бочка, — из многих окон, оторвавшись от дел, глядят ему вслед служащие люди, соображая, чей это и куда? Чаще всего грузовик, мчавшийся как на пожар, тормозит здесь же, перед чайной, и врастает в землю надолго. А служащие, удостоверясь, принимаются за дела, подсчитывая надои и обмолоты, сколько вывезено, сколько сдано и сколько еще с окружающих город полей сдать надлежит.
По одну сторону площади, там, где, возвращаясь с базара, люди ждут на жаре автобуса, — церковь. Купола ее, некогда золоченые, проржавели, и сквозь железный каркас, формой своей все еще напоминающий луковицы, светит по ночам на каменные развалины желтая луна. А на сбитой снарядом колокольне, на самом карнизе, из кирпичей, растет на ветру кривая березка. Как уж она там растет без воды, никем ни разу не политая, когда в такую сушь на земле и то деревья чахнут, — никому это не известно, да и не каждому есть время глядеть вверх. Посреди же площади, в небольшом скверике, — бетонный постамент. Многие годы незыблемо стоял на нем цементный памятник, вначале просто побеленный, а потом покрашенный под алюминий. А по обеим сторонам площади тесным кольцом окружали его учреждения. В двухэтажных, большей частью старинной постройки зданиях — низ кирпичный, верх рубленый, обшитый — помещалось их столько, что вывески у дверей лепились тесно друг к другу. Среди них над одной из дверей значилось: «Суд».
Туда, на второй этаж, вела деревянная в два пролета лестница, истертая посредине подошвами ног, словно протекал тут ручей, промывший себе русло. Тек он большей частью не своей волей, и были люди, руководившие правильным течением его. В числе них — три адвоката, в меру своих сил и возможностей пытавшиеся вылавливать каждую щепку, попавшую в общий поток. Как все служащие города, они приходили на работу в определенный час.
Первым приходил обычно Соломатин, живший дальше других. Неся за ручку ученический под крокодиловую кожу портфель, мятый, мягкий и вытертый, на одном никелированном замочке, он шел согбенно, над сутулой спиной торчали подрезанные сзади седые полосы, под козырьком фуражки блестели круглые стекла очков. При каждом шаге по лестнице вверх обозначались острые колени, голова кивала в такт, лицо скорбящее, словно нес он в своем обвисшем портфеле весь груз людских грехов.
Завадовский входил стремительно. Свежевыбритый, энергичный, с тонкой кожаной папкой в смуглой руке, на безымянном пальце которой блестело толстое золотое кольцо, он взбегал по лестнице, не задерживаясь ни с кем из ожидавших его клиентов, но каждому оставляя впечатление, что он торопится по его делу и будет лучше в интересах дела не останавливать его сейчас. При этом лицо его сохраняло профессионально-озабоченное выражение человека, который ничего определенного пока еще обещать не может, но, сознавая всю сложность, имеет основания надеяться на лучший исход.
Взбежав наверх, Завадовский здоровался, с порога бросал шапку на свой стол и шел вслед за нею. От сотрясения пола, произведенного его шагами, как бы поколебавшись, сами собой начинали растворяться дверцы шкафа у стены. Соломатин, близоруко царапавший пером по бумаге, подымал голову, смотрел на них поверх очков старчески мутноватыми слезящимися глазами. И, составив фразу в уме, опять сгибался носом к бумаге, шепча. После горячего утреннего завтрака Завадовскому, прежде чем приступить к делам, требовалась одна хорошая папироса и пара минут разговора с живым человеком. Не того вялого разговора, когда словами вторично проходят путь, давно пройденный мыслью, а разговора легкого, ироничного, способного доставить истинное наслаждение.
Вернувшись, закрыв дверцы шкафа, Завадовский садился на свое место и закуривал, вытянув ноги под столом. Некий философ, кажется, Киркегор, сказал однажды, что людям дана величайшая из свобод — свобода мысли, — они же почему-то требуют свободы выражения ее. Завадовский умел ценить эту величайшую из свобод, умел нe только пользоваться ею, но получать удовольствие, если рядом не было хорошего собеседника.
Проходя под открытым окном, Никонов услышал у адвокатов смех. Там посреди комнаты стоял Егоров, третий из адвокатов и самый молодой. Без пиджака, в белой рубашке с засученными рукавами, с плечами боксера, он громко рассказывал о только что закончившемся в областном суде процессе, в котором участвовал.