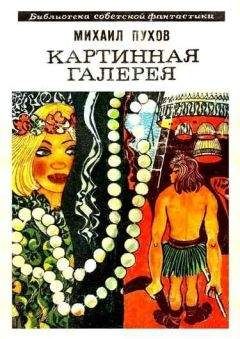Сергей Алексеев - Чёрный ящик
Затем началось обезвреживание. Лейтенант стоял надо мной, уперев руки в бока, и приговаривал: «Не спеши, Витька, осторожнее, осторожнее…». Я содрал дерн из корневищ тростника и руками начал сгребать густую, мягкую на ощупь грязь. Милиционеры перекрыли движение и расхаживали по пустому шоссе, посматривая в нашу сторону. А там, где скопился хвост остановленных машин, мелькала пестрая одежда любопытных. Их тоже притягивала опасность… Я осторожно проткнул щупом грязь. Он коснулся чего-то твердого, но не металла. «Тихо, тихо, – шептал лейтенант, – не торопись, это тебе не полигон…» Под слоем перегноя оказался маленький, трухлявый ящичек противопехотной мины нажимного действия.
– Наша, – сказал лейтенант. – Отечественная.
И вздохнул облегченно, будто «своя» мина была безопаснее иностранной. Я стер грязь с ладоней и сел. В голове проносились обрывки лекций и строчки из инструкций по правилам обезвреживания таких мин. Предупреждалось, что они быстро гниют в земле и металлические детали нажимного механизма оказываются свободными от корпуса. Моя в болоте за тридцать лет сгнила совсем. Деревянные стенки ее, пропитанные водой, чуть держались. По правилам ее следовало не трогать, а расстрелять из снайперской винтовки. Но здесь не позволяли условия. Я тронул пальцем крышку мины и отдернул руку.
– Смелей, Витька, – сказал лейтенант.
На полигоне было просто. Я ловко обезвреживал противотанковые, величиной с хорошую сковороду, коварные мины-лягушки, которые, прежде чем взорваться, подпрыгивали над землей, «саперные пулеметы», заряженные рубленым железом, огромные рогастые шары морских. Тут же была маленькая коробочка, безобидная с виду, жалкая, гнилая… Я лег на живот и заглянул в щель под крышку. Оттуда свешивались волоски перепревшей травы, комочки торфа забили почти весь зазор.
– Боек видишь? – спросил лейтенант шепотом.
– Ни черта тут не видать… – я взял крышку двумя пальцами и осторожно потянул вверх. Она легко отделилась, и лейтенант тут же взял ее из рук. Боек все-таки был. Из грязи под крышкой торчала тонкая черная соломина. Пальцы сами ухватили ее, я лишь сделал движение и вынул боек из гнезда. Затем я снял капсюль, а вернее, то, что от него осталось, и передал лейтенанту. Теперь нужно было проверить почву под миной. Ее могли ставить как неизвлекаемую, еще с одним детонатором, который срабатывает при разминировании, но лейтенант махнул рукой и бросил:
– Снимай, пошли…
Я взял истлевшую в болоте коробочку на ладонь, и пока шел к насыпи магистрали – не мог оторвать от нее глаз…
…Ночью я просыпался, хватал карабин и выходил на улицу. Лагерь спал крепко и спокойно. На отшибе, далеко от него, чернел силуэт складской палатки, и никто возле нее не маячил, не пытался взорвать или поджечь. Привязанные собаки тихо поскуливали и всякий раз вскакивали, замечая меня, – радовались…
Осень пришла так быстро, что не успели пожелтеть листья. Ударил заморозок, выпал иней, схватились льдом болота и с севера поволокло низкие рваные тучи. Потом все оттаяло и начало желтеть, сворачиваться, жухнуть. Зимовщики приехали в начале сентября и во главе с Худяковым стали рубить избу. На них не распространялся «собачий запрет», и в лагере появилось шесть лохматых разнопородных псов. Шайтан и Муха продолжали сидеть на цепи возле шалаша, однако на ночь Худяков спускал их на волю. В первый же день Шайтан передрался со всеми собаками, бил и сам был бит.
Сразу же за палатками поднимался широкий сруб. Зимовщики настаивали строить избу временную, лес не шкурить и пазов не вырубать. Однако после недолгого спора с ними Худяков пришел к Пухову и заявил:
– Если твои эти… не будут слушаться – я избу рубить не буду…
И сердито засопел.
Короче, зимовщикам пришлось и бревна шкурить, и подгонять их друг к другу, будто избу на век строили. Худяков сам зарубал углы, заставлял вертеть бревно и так и эдак, пока не находил нужную плоскость, затем стелил мох, укладывал. Мы уходили на профиль – топоры уже стучали; возвращались, ужинали – Худяков все торчал на срубе.
– Иди есть! – звал его Гриша. – А то вылью собакам!
– Выливай, – отмахивался тот.
Гриша складывал первое и второе в одну посудину, ставил повыше, чтобы не достали собаки, и шел в палатку. Худяков потом ел у себя в шалаше, уже впотьмах, а разговаривал с собаками.
– Чо, Шайтан, глаза таращишь? – добродушно спрашивал он. – Устал на цепи-то сидеть, брательник? Ничо, стемнеет – отпущу… Я тоже тут с вами как на цепи…
Или вдруг отмахивался от суки, шикал на нее, иногда коротко и глухо смеялся:
– Чего лижешься-то! Чего?.. Эх ты, баба есть баба, все бы тебе лизаться…
Я давно уже снял замок со склада со взрывчаткой и не просыпался по ночам. Иногда посмеивался над страхами Гриши, который многозначительно хмыкал – дескать, поживем – увидим. Осенью мне надо было отсылать контрольные работы по трем предметам, и я каждый вечер сидел до двенадцати. Гриша по-прежнему не ложился без меня спать, сидел на своем ящике, курил, вздыхал, ерзал. Однажды ему, видимо, надоело глядеть мне в спину, и он уверенно сказал:
– Слушай, Мельников, бросай ты свою учебу. Давай лучше поговорим. Все равно иностранным собкором тебе не быть.
– Почему? – рассмеялся я. – Ты что, пророк?
– Эх, Витька… – вздохнул Гриша. – У тебя мозги не те, хоть в голове масло есть… Чтоб за границей работать, надо иметь четкий, правильный и сухой… да, сухой! ум, понял? Без сырости. А у тебя в голове такого намешано – винегрет…
– Поваром я успею стать, – съязвил я, – как некоторые, знающие английский…
– Салага ты, – беззлобно бросил Гриша, – Хошь, я тебе сейчас такое покажу…
Он встал с ящика, поставил его на ребро и взял топор. Но потом кинул его в угол и отвернулся.
– Пошел ты, знаешь, куда?.. – проворчал он и, раздевшись, лег спать.
Через неделю, как приехали зимовщики, Гриша, обычно вставший раньше всех, влетел в палатку, разбудил меня и сказал:
– Худяков сбежал! Беги, проверяй склад!
– Как… сбежал? – не понял я. – Куда?
– А черт его знает! Я продсклад уже проверил. Нету пяти килограмм сухарей и пачки сахара. Понял? Ушел с собаками. В шалаше ни ружья его, ни мешка…
– На охоту, поди, – предположил я.
– Черта, на охоту! На охоту он мешок не берет.
Я вышел на улицу и сначала заглянул в шалаш Худякова. Спального мешка, который ему выдали в партии, не было. У входа сиротливо торчал кол, наполовину перегрызенный клыками. Я побежал к складу взрывмате-риалов. Там все было на месте. Дверь закрыта на палочку. В начатом ящике патроны не тронуты. Остальные ящики были с заводскими пломбами.
На завтрак Гриша подал битых Худяковым рябчиков.
– Ешьте, – буркнул он, – теперь не скоро дичь увидите…
– Кстати, а где Худяков? – спросил Пухов.
– Ушел, – отрубил Гриша. – И спальник казенный уволок…
После завтрака кто-то из зимовщиков сбегал в избу Худякова, но его и там не оказалось. Его ждали вечером, ночью, но напрасно. На следующее утро Пухов начал ругаться.
– Зима на носу, изба не готова, – выговаривал он зимовщикам. – А этот… куда-то сбежал.
Через три дня, так и не дождавшись Худякова, зимовщики начали строить избу сами. Шесть недостающих рядов уложили в один день и приступили к перекрытию. Их псы, видя, что драться больше не с кем, стали грызться между собой, однако собачьи скандалы проходили вяло и скоро утихли. Собаки разбрелись кто куда, а один кобель, худой и вовсе не драчливый, вдруг зачах, перестал жрать и только поскуливал, лежа в срубе. Ладецкий посмотрел ему в пасть, в глаза и, подозвав хозяина, сказал:
– Ну все, дружок, иди расстреливай его. Чумка.
Кобеля расстреляли и закопали в одном из подполов Плахино. Через день чумка обнаружилась еще у двух собак. Зимовщики забеспокоились. Дули в глаза псам сахарную пудру, поили отварами, прогоняли трех еще здоровых на вид кобелей в тайгу искать траву, но собаки скулили, жались к людям и одна за другой чахли.
– Ну только вернется эта сволочь! – грозили они Худякову. – Мы ему устроим! Можно ведь было сказать, что чумка у собак началась. Нет, паскуда, только своих спасает…
– Если заболели – говорить поздно, – одергивал их Ладецкий. – Правильно сделал, что своих увел. Может, и спасет…
Пухова их ненависть к Худякову волновала больше всего.
– Мужики! – призывал он. – Бросьте шуметь. Знаете же, что за болезнь. Всех собак косит – стоит одной заболеть. Не он – вы ее сюда завезли…
– Ты что, защищаешь его? – возмущались зимовщики. – Нашел кого защищать!
– Да мне плевать на ваших собак! – резал Пухов. – Вам же зимовать вместе, постреляетесь из-за барахла…
Худяков пришел через две недели. Худой, обросший, грязный. На лице одни глаза сверкают. Собаки не лучше – ветром качает, переболели, но выжили. Шайтан пришел сам, суку Худяков принес на руках. Сразу же к Пухову.