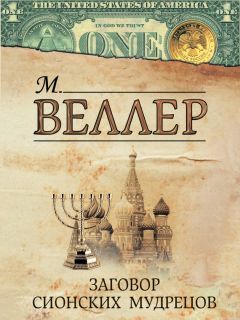Михаил Веллер - Заговор сионских мудрецов (сборник)
Но как отказаться от алфавитного письма, этого дьявольского изобретения евреев, ибо только многомудрый Змей-искуситель мог вложить в умы людей такое орудие познания! Ведь обрушатся наши история и культура, и погребут под обломками невинные народы!
Есть только один радикальный способ покончить с этой заразой, этой раковой опухолью человечества. Этот достойный античных героев путь — сурово и мужественно взглянуть в лицо правде и покончить с собой. И с собою навсегда унести в могилу эту проказу, спасая тем самым чистоту грядущих рас и будущее человечество.
Но страшное опасение останавливает бестрепетно разящую руку. Ведь тем самым исполнится тысячелетняя мечта евреев: уничтожить всех своих врагов! И разящий меч вложить нам в собственные руки, чтобы своими руками поразили мы всех врагов племени иудейского.
Уже и Азия и Африка давно заражены ими. Уже пигмеи из экваториальных джунглей обучены арийскими (!) миссионерами буквенному письму, денежному обращению и единому еврейскому богу.
Еще Киплинг писал: «Вокруг всей планеты — с петлею, чтоб мир захлестнуть, вокруг всей планеты — с узлами, чтоб мир затянуть! — Здоровье туземца — наш тост!» Кого имел в виду великий поэт под «туземцем»? Это даже не нуждается в специальном разъяснении… Конечно его — туземца везде, представителя «малого народа», «инородца», выходца с «той земли» (о-«бет»-ованной). И с восторгом арийские завоеватели читали и печатали эти стихи — не ведая, кого славят и чьей воле служат, отправляя лучших сыновей на тяжкий труд за тысячу морей. Строго говоря, жизнь оставляет нам два выхода. Или ножом по крайней плоти, или ножом по горлу. Или пусть в мире будет одним явным евреем больше — и тогда я, по крайней мере, буду пытаться извлечь личную и шкурную еврейскую выгоду из своего положения, — или пусть в мире станет хоть одним тайным евреем меньше, а главное — лично я навсегда избавлюсь от этого нечеловеческого, непереносимого племени, бороться с которым иначе, как показала вся история, просто невозможно.
Я специально купил наилучший, вечный, золингеновской стали нож. И этот Золинген тоже был еврей!..
И будучи такими, какими нас сделали евреи, мы шлем им свои праведные и бессильные проклятия.
Трибунал
Бриллиантовая Звезда «Победы» впивалась Жукову в зоб.
Он отогнул обшлаг, хмуро оценил массивные швейцарские часы и перевел прицел на часового. Часовой дрогнул, как вздетый на кол, отражение зала метнулось в его глазах, плоских и металлических подобно зеркальцу дантиста. Высокая дворцовая дверь, белое с золотом, беззвучно разъехалась.
Конвоир отпечатал шаг. За ним, с вольной выправкой, но рефлекторно попадая в ногу, следовал невысокий, худощавый, рано лысеющий полковник. Второй конвоир замыкал шествие.
Они остановились на светлом паркетном ромбе с коричневыми узорами в центре зала, против стола, закинутого зеленым сукном. Конвоиры застыли по сторонам.
Жуков смотрел сквозь них секунду. Секунда протянулась долгая и тяжелая, как железная балка, сминающая плечи. И шевельнул углом рта.
— Почему в знаках различия? — негромко спросил он.
Под бессмысленными масками конвоиров рябью дунула тревога, внутренняя суета, паника. Правый, в сержантских лычках, с треском ободрал плечи полковничьего мундира и швырнул; на полу тускло блеснуло.
— Решения суда еще не было, — выговорил подсудимый.
— Молчать, — так же негромко и равнодушно оборвал Жуков. — Суд — ну?
Сидевший справа от него гулко покашлял, завел дужки очков за большие уши, из которых торчали седые старческие пучки, и хрустнул бумагой:
«Нарушив воинскую присягу и служебный долг, — стал он зачитывать, по-волжски окая, — вступил в антигосударственный заговор с целью свержения законной власти, убийства членов высшего руководства страны и смены существующего строя. Обманом вовлек в заговор вверенный ему полк, который должен был составить основную вооруженную силу заговорщиков…»
Прокуренные моржовые усы лезли ему в рот и нарушали дикцию. Жуков покосился неприязненно.
— Мог бы подстричь, — буркнул он.
— А?
— Хватит. Чего неясного. Полковник, твою мать, к тебе один вопрос: чего сам не шлепнулся?
— Виноват, — после паузы просипел полковник: голос изменил ему, иронии не получилось.
— Струсил? На что рассчитывал? Расстрел? Плац, барабан, последнее слово? С-сука. Повешу, как собаку! Приговор.
Сидевший слева, потея, корябал пером лист. Он утер лоб, пошевелил губами, встал и поправил ремни, перекрещивающие длинную шерстяную гимнастерку. Широкоплечий и длиннорукий, он оказался несоразмерно низок.
«Согласно статей Воинского Устава двадцать три пункты один, два, четыре, семь, Уголовного Кодекса пятьдесят восемь пункты один, три, восемь, девять, десять, за измену Родине, выразившую… яся… в организации вооруженного заговора в рядах вооруженных сил с целью убийства высшего руководства страны… единогласно приговорил: к высшей мере наказания — смертной казни с конфискацией имущества. Ввиду особой тяжести и особого цинизма преступления… могущих последствий… через повешение».
— Следующий, — бросил Жуков.
Полковник сухим ртом изобразил плевок под ноги. Залысины его сделались серыми. Он повернулся налево кругом, сохранил равновесие и — спина прямая, плечи развернуты — меж конвоя покинул зал.
Жуков размял папиросу и закурил.
— Кто его на полковника представлял? Расстрелять.
Двое заседателей также щелкнули портсигарами. Левый, маршал в ремнях, предупредительно развел ладонью свои пышные усы, которые, в отличие от штатского, имел смоляные и ухоженные, и с грубоватой деловитостью, которая по отношению к старшим есть форма угодливости старых рубак, спросил:
— А с полком как будем?
— Старших офицеров — расстрелять. Остальных — в штрафбат.
— Так точно.
Правый член тройки кивнул серебряным ежиком, обсыпал пеплом серый мятый костюм и снова закашлялся.
— Если враг не сдается — его уничтожают, — отдышавшись, проперхал он. — Если сдается — тем более уничтожают.
Низкое зимнее солнце горизонтальным лезвием прорубило тучи. Подвески люстры выбросили снопы цветных искр. Зайчики вразбивку высветили роспись плафона. Обнаженная дебелая дама, обнимающаяся с Вакхом, выставила розовые формы. Штатский туберкулезник с трудом отвел глаза.
Следующий двигался расслабленно и устало. Он взбил височки, скрестил руки на груди коричневого бархатного пиджака и выставил ногу в обтянутой клетчатой штанине с выражением достоинства и непринужденности.
Однако донесся не изящный букет парфюма, но слабое удушливое веянье параши, кислой баланды, немытого белья — запах камеры, незабываемый каждым, кто удо стоился однажды его нюхнуть.
Он откинул голову и озвучил тишину:
— Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прек…
Конвоир без замаха ткнул его в почку и подхватил оседающее тело.
— Говорить будешь, когда я прикажу, — сказал Жуков. — «Честь». Ну-ка, что там про его честь, ты, писатель.
Правый заседатель булькнул гортанью и перелистал, ища место:
«Встретив на Невском у Александровского сада Фаддея Булгарина, поинтересовавшегося у него, почему народное волнение и передвижение войск, и не знает ли он, что это происходит, отвечал ему: „Шел бы ты отсюда, Фаддей, здесь люди умирать на площади идут“. Но сам после этого, однако, на площадь не пошел, а вернулся до угла Мойки и зашел в кухмистерскую Вольфа, где и пообедал, выпил полубутылку „Шато“, после чего поехал на извозчике домой, где и провел с женой все время до ареста…»
— Тьфу, — поморщился Жуков. — Повесить.
— Я бы хотел походатайствовать, — проокал правый и пососал моржовый ус. — Кондратий Федорович талантливый поэт, он мог бы принести еще много пользы нашей литературе. Союз писателей поможет. Прошу записать мое особое мнение — ну, выслать в Европу. Да! Для лечения. Душевной болезни. Явной.
— Добрый ты, Алексей Максимович, аж спасу нет, — сказал Жуков. — Походатайствовал? И ладно. Отказать.
— Он принесет литературе. — сказал маршал в ремнях. — Инструкцию, как шашки точить… Как там? — три ножа с молитвой в спину? Точильщик хренов! Вот самые вредные — вот эти вот интеллигенты. Подзудят — а сами в кусты. Пожрал, выпил — и домой, к жинке под бочок. А другие за них рубай, значит, серая кость. Был у меня тоже один такой… комиссар, понимаешь… ну, недолго прокомиссарил, — он белозубо усмехнулся.
Рылеев хрустнул пальцами. «Жена не перенесет», — пробормотал он…
— Чего? Лагеря? Увести.
Истопник по дуге пересек зал, стараясь ступать деликатно в мягких валенках и, не удержав, с грохотом свалил березовую охапку на медный лист под высокой голландской печью. Свежо и мерзло запахло лесом.