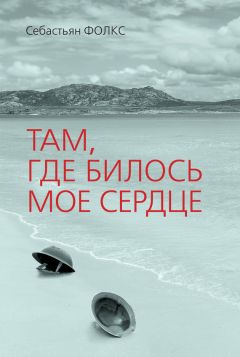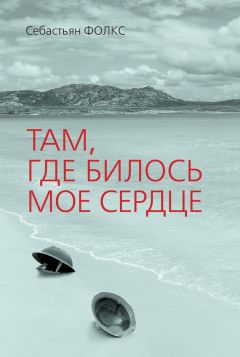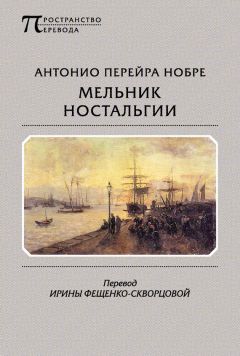Филип Рот - Людское клеймо
Скрыта от меня была и маленькая голубая татуировочка на правой руке у самого плеча — надпись "U. S. Navy"{4} между лапами слегка поблекшего якорька, идущая вдоль широкой части дельтовидной мышцы. Крохотный символ, если таковой нужен, миллиона обстоятельств, из которых складывается чужая жизнь, пурги подробностей, которые, улегшись, образуют состав, называемый биографией, — крохотный знак, напоминающий мне, что наши представления о людях в лучшем случае не совсем верны.
— Хранили, да? Так долго? — сказал я. — Наверно, ого-го какое письмо.
— Не письмо, а бомба. Благодаря ему я понял, какая со мной произошла перемена. Я был женат, преподавал, мы ждали ребенка, и тем не менее до письма я не понимал, что все Стины у меня позади. Оно объяснило мне, что началось настоящее, началась серьезная жизнь, посвященная серьезным делам. У моего отца был бар на Гроув-стрит в Ист-Ориндже. Вы-то из Уикуэйика, вы вряд ли хорошо знаете Ист-Ориндж. Мы жили в бедной части города. Таких еврейских содержателей баров, как мой отец, по всему Нью-Джерси было пруд пруди, и конечно у них у всех имелись связи с мафией — а как иначе, если ты хочешь пережить мафию? Отец не был неженкой, но и отпетым не был, и он хотел для ме[17]ня лучшей доли. Упал на пол и умер, когда я учился в выпускном классе. Я был единственным ребенком. Во мне души не чаяли. Он даже запретил мне помогать в баре, когда тамошние персонажи стали вызывать у меня интерес. Все в жизни, включая бар — нет, начиная с бара, — постоянно толкало меня к тому, чтобы всерьез учиться, и в те школьные дни, когда я зубрил латынь, когда учил греческий, который еще входил тогда в программу, сын содержателя бара очень старался быть серьезным — очень.
Мы быстро сыграли партию, и Коулмен показал мне выигрышную комбинацию. Я стал сдавать, а он снова заговорил. Я никогда от него такого не слышал. Все, что я слышал от него раньше, — это как он возненавидел Афина-колледж и почему.
— Ну так вот, — сказал он. — Когда я осуществил отцовскую мечту и сделался жутко респектабельным преподавателем колледжа я стал думать, как думал отец: что серьезная жизнь теперь навсегда. Что она не может кончиться, если у тебя есть диплом и статус. Но она кончилась, Натан. "Существуют они — или они духи?" Сказал — и готов. Когда ректором был Робертс, он часто говорил: мол, я потому хорош на посту декана, что манерам обучался в баре. Робертсу с его элитарным генеалогическим древом нравилось, что в кабинете через коридор от него сидит забияка из пивнушки. Он очень любил тыкать моим происхождением в нос старой гвардии, хотя вообще-то неевреи, как вы знаете, терпеть не могут историй про евреев, выбирающихся наверх из трущоб. Да, Пирс Робертс, конечно, относился ко мне чуть иронически и уже в то время — да, если задуматься, уже в то время...
Но тут он оборвал сам себя. Не захотел продолжать. Он решительно разделывался с комплексом свергнутого монарха. Обида, которая, казалось, будет жить вечно, была объявлена умершей.
И вновь Стина. Воспоминания о ней ох как помогают.
— Познакомились в сорок восьмом, — сказал он. — Мне было двадцать два, я отплавал во флоте и учился в Нью-Йоркском университете — мне как демобилизованному полагалась стипендия. Ей было восемнадцать, она всего несколько месяцев как приехала в город. Устроилась на какую-то работу и поступила на вечернее отделение в колледж. Независимая девушка из Миннесоты. Уверенная в себе — так, по крайней мере, казалось. По матери датчанка, по отцу исландка. Быстрая. Сообразительная. Миловидная. Высокая. Восхитительно высокая. В ней была грация лежачего изваяния. До сих пор помню. Два года это у нас длилось. Называл ее Волюптас. Это дочь Психеи. Для римлян — олицетворение чувственного наслаждения.
Он положил на стол карты, взял лежавший у кучки сброшенных карт конверт и вынул письмо. Оно было напечатано на машинке на двух страницах.
— Мы потом однажды встретились — случайно. Я на день приехал в город из Аделфи, вдруг гляжу — Стина, ей уже стукнуло двадцать четыре или двадцать пять. Мы остановились и поговорили, я ей сообщил, что мы ждем ребенка, она мне рассказала о своих делах, под конец мы поцеловались — и пока. Спустя примерно неделю в колледж на мое имя приходит письмо. Оно датировано. Она поставила дату, вот — 18 августа 1954 года. "Дорогой Коулмен! Я была очень рада нашей встрече в Нью-Йорке. При всей ее краткости я после того, как мы распрощались, почувствовала осеннюю печаль — наверно, потому, что теперь, когда прошло шесть лет со дня нашего знакомства, стало до боли очевидно, как много дней [18] жизни осталось позади. Ты очень хорошо выглядишь, и я рада, что ты счастлив. Ты, надо сказать, вел себя очень по-джентльменски. Не стал "пикировать" — а ведь в те времена, когда мы начали встречаться и ты снимал комнату в полуподвале на Салливан-стрит, ты, казалось, только этим и занимался. Помнишь себя? Ты замечательно "пикировал", совсем как хищная птица, которая, пролетая над сушей или морем, вдруг видит что-то движущееся, что-то полное жизни, мгновенно нацеливается, камнем падает вниз и — хвать! Меня, когда мы познакомились, поразила твоя летучая энергия. Помню, как я в первый раз пришла к тебе в комнату и сидела на стуле, а ты ходил взад-вперед и только изредка присаживался на табуретку или кушетку. До того как мы сложились и купили матрас, ты спал на жалкой кушеточке, полученной задарма в Армии Спасения. Ты предложил мне выпить и подал мне стакан, а сам тем временем разглядывал меня с невероятным любопытством, словно то, что у меня есть руки, способные держать стакан, и рот, способный из него пить, — великое чудо, как и то, что я вообще возникла в твоей комнате назавтра после знакомства в метро. Ты говорил, задавал вопросы, иногда отвечал на мои и был страшно серьезен — но радостной какой-то серьезностью, а я очень старалась поддерживать разговор, но слова находила с трудом. Так что я смотрела на тебя и при этом впитывала и понимала гораздо больше, чем могла ожидать. Но я не способна была заполнить словами пустоту, созданную нашим влечением друг к другу. Я думала про себя: "Нет, я еще не готова, я "Только недавно в городе. Не сейчас. Но я буду готова — чуть погодя, еще немного поговорим, еще несколько фраз, если только я соображу, что мне хочется сказать". (К чему готова — сама не знаю. Нет, не просто отдаться. Готова быть.) Но тут, Коулмен, ты спикировал на меня длинным броском через полкомнаты. Я была и ошеломлена, и восхищена. Слишком быстро — и вместе с тем вовремя".
Он перестал читать, потому что услышал по радио первые звуки песни Синатры "Очарован, взволнован, смущен".
— Хочу танцевать, — сказал Коулмен. — Давайте вместе.
Я рассмеялся. Нет, это был совсем уже не тот неистовый, обозленный, ощеренный мститель времен "Духов", отчужденный от жизни и бешено ее атакующий, — это был даже не другой человек. Это была другая душа. Юношеская, если хотите. Я тогда ясно представил себе — по письму Стины и по читающему его голому выше пояса Коулмену, — каким Коулмен Силк некогда был. До того, как он стал деканом-революционером, до того, как он стал серьезным профессором античной словесности, и задолго до того, как он стал парией Афина-колледжа, он был юношей не только усидчивым, но еще и обаятельным, соблазнительным. Легко возбудимым. Озорным. Чуточку даже демоническим — этаким козлоногим Паном со вздернутым носом. Давно, во время оно — до того, как серьезные вещи полностью взяли верх.
— Дочитайте сперва письмо, — ответил я на приглашение к танцу. — Что она дальше пишет?
— За три месяца до нашего знакомства она приехала из Миннесоты. Я просто спустился в метро один и поднялся с ней. Вот он вам, сорок восьмой во всей красе. — Он снова обратился к письму. — "Я была страшно увлечена тобой, но боялась, что ты сочтешь меня слишком юной, сочтешь неинтересной среднезападной провинциалкой, и, кроме того, ты встречался тогда с какой-то "умненькой очаровашкой", правда, с хитрой улыбкой сказал мне: "Мы вряд ли поженимся". Я спросила: почему? Своим ответом — "Боюсь, мне станет скучно" — ты добился того, что я дела[19]ла все, лишь бы ты со мной не скучал, и даже пропадала на время, чтобы тебе не надоедать. Ну вот и все. Довольно. Я не должна тебе докучать. Обещаю, что больше не стгану. Будь счастлив. Будь счастлив. Будь счастлив. Со всей нежностью, Стина".
— Что ж, — сказал я, — вот он вам, сорок восьмой во всей красе.
— Теперь танцевать.
— Только не пойте мне в ухо.
— Вставайте же наконец.
— Я подумал — а что, чем черт не шутит, мы оба скоро сыграем в ящик, — и я встал, и на веранде мы с Коулменом Силком начали танцевать фокстрот. Он вел, а я, как мог, слушался. Мне вспомнилось, как он ворвался в мой кабинет, только-только договорившись в похоронном бюро о погребении Айрис, и, вне себя от горя и гнева, заявил, что я должен написать книгу обо всех невероятных нелепостях его "дела", кульминацией которого стало убийство его жены. Можно было подумать, что никогда больше этот человек не соблазнится глупостями жизни, что все игривое и легкое в нем уничтожено и утрачено наряду с профессиональной карьерой, репутацией и внушающей почтение женой. Я видел его в тот день, когда ее труп лежал еще теплый, и, может быть, именно поэтому мне даже в голову не пришло посмеяться и дать ему возможность, если хочет, танцевать на веранде в одиночку — просто посмеяться, посидеть и получить удовольствие от зрелища; может быть, именно поэтому я встал, дал ему руку и позволил мечтательно водить меня, приобняв за спину, по старому, вымощенному голубоватым песчаником полу.