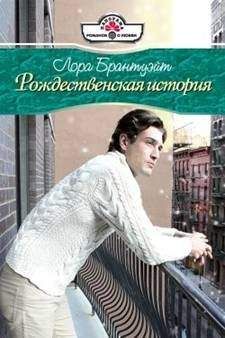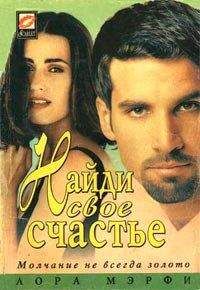Фелисьен Марсо - Кризи
Она наклоняет голову. Ее плечо — рядом с моим. Ее губы зацепляются за мои губы, ее губы — в моих губах, и мы медленно, мягко оседаем на серо-черный палас. Я вхожу в нее, я — в ней, она мотает головой справа налево, слева направо; потом ее голова, повернутая ко мне профилем, на секунду застывает на серо-черном паласе и кажется, что она слушает, что ее тело прислушивается к моему телу, затем ее губы опять оказываются в моих губах, а халаты, как большие крылья распахиваются вокруг нас, большие мертвые распростертые крылья, салатовые и оливково-зеленые, и я приподнимаю ее, и ее тело, изогнутое дугой, она льнет ко мне, я нахожусь в ней, и она раскачивается, и ее тело подо мной похоже на морскую зыбь, пятки ее бьют по паласу, я нахожусь в ее животе, все ее мышцы сомкнулись вокруг меня, сжимают меня, напрягаются, как ненасытный рот, увлекающий меня в пучину, а руки ее, ее руки сцепились у меня на пояснице и тоже тянут, тянут меня в пропасть, хватаются за мою поясницу, я спасаю тонущую девочку, мою Офелию, мою Кризи, кусаю ее в шею, там бьется маленькая быстрая жилка, тугая, как будто вставшая на дыбы, ее тело изогнулось, мышцы напряглись, ее губы — в моих губах, ее живот стал моим животом, она стонет, коротко, прерывисто охает, ее тело раскрывается вновь и вновь, я нахожусь внутри нее, и она твердит: «Давай, давай», и я даю, несусь, я ощущаю в себе этот бешеный галоп, этот прилив, я близок у цели, я ору, меня пронзает молния, я впиваюсь в ее рот, и на наши тела нисходит покой, похожий на оцепенение, похожий на вздох; я в тебе, моя Кризи, мы на серо-черном паласе. Медленно, точно два обломка, выброшенные на берег за утихшим морем, мы поднимаемся на поверхность. Мы всплываем посреди большого пустого квадрата, ограниченного по сторонам витражом и желтыми стенами.
Потом мы идем на кухню. Кухня очень хорошо оснащена: тут с десяток электроприборов, красный жаростойкий пластик и белый кафель, причем на каждом четвертом белом квадратике нарисована какая-нибудь картинка — овощ или кораблик. В холодильнике негусто: яйца, два авокадо, шампанское. Мы едим на столе из жаростойкого пластика. Я говорю: «Мне это напоминает наш самолет». — «Какой самолет?» — спрашивает Кризи. Мы решаем пойти в кино, я ищу газету с программой и нахожу только одну, да и ту недельной давности, и мы отказываемся от кино, точнее, эта идея исчезает сама по себе. Кризи ставит пластинку, потом останавливает ее. Заняться нам нечем. Действия наши ни к чему не ведут. Мы идем спать. Правда, и это решение возникло как-то самопроизвольно. Кризи поднялась к себе в спальню. Я отправляюсь за ней следом. Она растягивается на кровати, я располагаюсь рядом, даже и не близко, она лежит на спине, я — на животе, прижавшись губами к сгибу локтя. Потом мы перевернулись, я оказался на спине, а она свернулась рядом. У меня в объятиях, уткнувшись лицом мне в грудь. На этой кровати, в бледном свете, проникающем сквозь витраж, мы лежим, словно два ребенка. Невинные как дети, такие же свободные, освобожденные наши жизни, ее жизнь, моя жизнь, струящиеся как наши два халата.
Твоя рука — на моей груди, твое дыхание на моей груди, твое колено, касающееся моего мужского достоинства, ты забылась, доверилась мне, мы — два ребенка, оказавшихся рядом, на одном плоту, плывущем вниз по течению ночи. Она заснула. Некоторое время я бодрствовал над ней. Потом заснул и я. Мы оба погрузились в глубокие воды. Потом я проснулся, мне холодно. Тихонько, стараясь как можно меньше шевелиться, я пробую найти одеяло. Просыпается в свою очередь и Кризи.
— Который сейчас час?
— Половина седьмого.
— Тебе пора уходить.
— Уходить? Но почему?
— Скоро вернется Снежина.
— Ну и что?
Нет, нет, настаивает Кризи. Снежина не должна знать. Снежина — это Снежина. Она не поймет. Все это Кризи бормочет в каком-то полусне: какие-то бессвязные слова, обрывки слов, сновидений. Она даже начинает говорить что-то об испанской церкви. Я одеваюсь. Никак не могу найти галстука. Куда же я его подевал? Включаю лампу. Хожу с ней по комнате. Вилка выдергивается из розетки. Приходится искать розетку. Не нахожу. Зато в конце концов нахожу галстук. Кризи спит. Спит глубоко. Я наклоняюсь над ней. Тихо говорю: «Кризи». Ее нет. Она ускользнула от меня. Нырнув в глубокие воды. Она лежит на спине поперек кровати, руки ее раскинуты в разные стороны и образуют с телом прямой угол, голова ее спрятана в груде подушек, погруженная, погребенная, провалившаяся в сон. Я целую ее в спину. Спускаюсь вниз до впадины бедра. Она не шевелится. Я тихонько укрываю ее простыней и одеялом.
Спускаюсь в гостиную. Бледный свет, проникающий через витраж, рисует на паласе большой квадрат. На полу по-прежнему в беспорядке разбросаны пластинки и каталоги. В этом утреннем освещении все вещи выглядят неестественно, кажется, что мебель парит на некотором расстоянии от пола. Три Кризи на трех стенах кажутся еще больше. Три блестящих призрака. Они наблюдают за нами. Надвигаются на нас. На улице в одиночестве стоят только наши две машины, других нет. Большие уличные фонари еще не выключены, но их огни уже ничего не освещают, теперь они стали лишь дырами в небе. Я мчусь. Сам не знаю куда. Еду просто ради удовольствия, удовольствия опять слышать гул мотора. Я мог бы ехать так не один час. В конце концов я все же подъезжаю к гостинице, которая находится рядом с Палатой, где обычно останавливаюсь летом, когда квартира закрыта, а мне по делам приходится бывать в Париже. Портье немного удивлен. Я мог бы что-нибудь ему объяснить. Но не делаю этого. Предпочитаю оставить его теряться в догадках. Мне по душе такого рода перипетии.
IV
Внимание. Мне нужно быть внимательным. Ничего не упускать из виду. Не мчаться слишком быстро. Если какой-нибудь ключ и существует, то он где-то здесь. В тот день, в воскресенье, между Кризи и мной возникло какое-то сияние. Не может быть, чтобы то сияние ничего не осветило. Я говорю не о любви. И даже не о той ночи, которую мы провели с ней вместе. Я говорю о пластинках, о том мгновении, когда мы взглянули друг на друга, узнали друг друга, о том мгновении, когда мы были единым целым. Любовь — это дело несложное. В этих объятиях, в этой борьбе, в этой гонке, во время этой игры в классики, в этой сконцентрированной в одном мгновении вечности быть единым целым или, во всяком случае, поддаться той иллюзии в общем не сложно. Гораздо труднее стать единым целым во время раскладывания пластинок. В тот момент, когда мы находились между витражом и тремя плакатами, возник вопрос. Вопрос, на пороге которого мы остановились и на который дали только самый простой, самый быстрый ответ: мы занялись любовью. Возможно, этого было недостаточно. Нас ведут наши тела. А всегда ли они ведут нас правильным путем? Не встают ли они иногда между нами и той истиной, что проходит, помаячив, потанцевав, перед нами, и вот уже исчезла? Тела-то ведь грузные, а истина пританцовывает, всегда касаясь земли только одной ступней. Правда, другого ответа могло и не быть. Так же как, может быть, не было и самого вопроса. Тоже не исключено. Возможно, были только два изголодавшихся тела. Возможно, была одна только рисовка, которой мы окружаем, которой мы разукрашиваем наше желание, когда, вознесенным вдруг на вершину самих себя, нам так легко, так естественно говорить о жизни, о смерти, о том, что будет всегда, о том, чего не будет никогда, а потом, выговорившись, вернувшись в нашу рутину, удивляемся тому, что мы говорили, удивляемся тому, что сказали. Нет, я чувствую, что в тот момент, находясь рядом с Кризи, я к чему-то прикоснулся, что я оказался на пороге иного мира, на подступах к земле, которая мелькнула передо мной в тумане. Но к чему же я все-таки прикоснулся? Не знаю. Может быть, так никогда и не узнаю. Мы все играем в одной пьесе, текст которой нам неизвестен или же непонятен, где опыт бесполезен, где счастье и несчастье — всего лишь затемненные грани того, что от нас всегда ускользает: другого человека. Вот он, этот текст, я принес его, я отдаю его, с его знаками, примечаниями и фразами. Для того, чтобы другие рассортировали и расшифровали их. В моем гостиничном номере… Нет, бессмысленно говорить о моем гостиничном номере. Если ключик и существует, то он не там.
В одиннадцать часов я звоню Кризи. Говорю: «Я сейчас приеду». Она отвечает: «Будьте так любезны». Это выражение меня удивляет. К тому же Кризи говорит это совершенно нормальным тоном, и явно без малейшей тени иронии. Совсем как в прошлый раз, когда я пришел и она сказала мне: «Как мило с вашей стороны». Я заметил это еще в самолете: она иногда произносит такие фразы, которые кажутся механическими, не связанными ни с чувствами, ни с обстоятельствами. Как те куклы, что произносят, когда их дергают за веревочку: «Папа, мама, хорошая лошадка». С Кризи то же самое. Иногда. Не часто. Как если бы она была рассеянной, или как если бы она не желала утруждать себя поисками и произносила первую приходящую на ум фразу. Я приезжаю. Снежина открывает мне дверь. Потом снова берется за пылесос. На Кризи — сиреневые брюки и курточка цвета электрик в китайском стиле со стоячим воротничком. Она что-то мне говорит. Из-за гудения пылесоса слов не слышно. Своим обычным решительным шагом она направляется к розетке, выдергивает вилку и говорит: «Я должна сейчас уйти», — и вставляет вилку обратно. Я хочу ответить. Но с работающим пылесосом это невозможно. Теперь я, в свою очередь, выдергиваю вилку. Снежина опускает пылесос и, положив руку сверху, ждет с отсутствующим выражением лица, как солдат при команде «вольно».