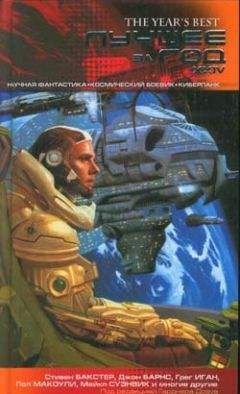Анна Козлова - Все, что вы хотели, но боялись поджечь
Мама дрогнула.
— Заходи, — сказала она и повесила телефонную трубку.
После чего побежала к зеркалу, вздыбила челочку и торопливо нарумянила щеки.
Папа зашел часа через полтора.
Мне достался здоровенный медведь в красном колпаке, а маме — четки из лунного камня.
— Ты надо мной издеваешься? — прошипела мама.
Папа обнял ее прямо в прихожей. Он, скорее всего, не заметил, что она изменила прическу, просто в тот вечер она показалась ему другой женщиной. Другой и, следовательно, новой.
Меня в экстренном порядке уложили спать без мытья, хотя накануне мама говорила, что перед праздником надо помыть голову.
На кухне быстро зазвенели бутылки, через некоторое время стал взрывами раздаваться мамин смех, папа довольно отчетливо произнес:
— Ну, пойдем, что ли?
Мама, судя по голосу, неслабо напилась. Она повторяла:
— Какой же ты подонок! Подонок…
Папа в ответ гомерически хохотал.
Потом голоса традиционно переместились в спальню. Мама и папа были слишком пьяны, чтобы контролировать свой «шепот», — я слышала все, что они говорили. Честно говоря, в ту ночь я поразилась неизбывному убожеству любви в целом и их отношений в частности. Они не виделись несколько месяцев, за это время столько всего произошло, но между ними это выглядело так, как если бы их обоих высшие силы поставили на паузу. Папа все время повторял:
— Признайся, у тебя кто-то есть.
А мама в ответ хохотала:
— Какая тебе разница? Может, и есть…
Далее началась обычная возня, мамины всхлипы, папино рычание, препирательство о том, можно курить в комнате или нет… Папа постоянно говорил: «Я щас» — и бегал на кухню за бутылками.
Утром я проснулась от истерического надрыва будильника. Я накрылась одеялом с головой, зная, что у меня есть еще минут десять. Сейчас мама со вздохом встанет, зевая, отправится на кухню, поставит на плиту чайник, умоется, вставит линзы в глаза, покурит, нарежет хлеб и сыр, подогреет кашу, сварит кофе, а потом зайдет ко мне и скажет:
— Все, пора вставать. Застели свою постель, иди в ванную, причешись и умойся.
Так она говорила всегда, каждый день. Эта формулировка продуктивного утра намертво въелась в мой мозг. Я вставала, как зомби, заправляла кровать, потом шла в ванную, чтобы причесаться и умыть лицо, и в финале всего этого действия мы с мамой сидели друг напротив друга за кухонным столом и давились полезной кашей.
Я пролежала под одеялом гораздо дольше, чем десять минут, а мама все не появлялась. Я разволновалась, ворвалась в ее спальню и увидела, что она дрыхнет без одеяла, в одной только шелковой комбинации. Папа спал на некотором отдалении и ужасно храпел.
— Мам, вставай, мам! — я принялась будить ее.
Это продолжалось вполне безрезультатно минут пять, когда она вдруг подскочила на кровати и хрипло забормотала:
— Боже, боже! Сегодня елка! Какая же я скотина… — Тут ее расфокусированный взгляд сосредоточился на мне. — Одевайся! — заорала мама. — Колготки и костюм в твоей комнате на стуле, быстро поедим и пойдем!
Я бросилась одеваться. Мама тревожила папу с тем смыслом, чтобы он тоже встал. Папа вставать не желал. Они опять поругались.
— Не можешь взять себя в руки, сходить с ребенком в детский сад, — орала мама, попутно румяня щеки, — тогда убирайся отсюда! Ты что думаешь, здесь спать будешь?!
Папа что-то ворчал, а потом угрюмо сел на кровати и потянулся за своими штанами, валявшимися на полу.
— Ты пойдешь в детский сад или нет? — скандально допрашивала его мама.
— Нет, — ответил он, помолчав.
— Скотина! — крикнула мама. — Я лишу тебя родительских прав!
— Да пошла ты…
В детский сад мы прибыли с мамой вдвоем и с приличным опозданием. Я с подачи воспитательницы незаметно встроилась в ряд «снежинок», а мама заняла место, предусмотрительно занятое для нее мамой Костика, Дашей. Я видела, как мама и Даша сразу же начали о чем-то жарко шептаться, прикрывая рты ладошками. Разговор, как я поняла даже на приличном расстоянии, касался «этого самого», почему-то ничто другое не занимало маму и ее подруг так сильно. Я даже знала, как этот разговор начался.
— Привет! — шепотом приветствовала маму Даша. — Ну, ты как?..
— Ой, кошмар, — отвечала та еще более тихим шепотом, — ты представляешь, пришел Андрей, и мы с ним… Это самое.
Дальше сдавленный хохоток.
— Да ладно!
— Я сама от себя офигеваю…
— А ребенок как?
— Да она ничего не поняла. Ну, папа пришел, посидел, потом я ее спать уложила…
— И чего вы с ним?
— Слушай, Дашик, у меня губы нормальные?
— Ну припухшие чуть-чуть, даже сексуально, а что?.. Ты… Что? Ты — ему?!!
— Дашик, я как будто сошла с ума! У меня теперь такое чувство, что эти губы у меня на пол-лица и все на меня смотрят!..
Выступали «снежинки». Моя фраза была после Кристины, говорившей:
Утром кот
Принес на лапах
Первый снег!
Первый снег!
Кристина, неуклюже поклонившись, убежала, и на ее место выбежала я, с громкой и бессмысленной декламацией:
Он имеет
Вкус и запах,
Первый снег!
Первый снег!
Говоря все это, я в упор смотрела на маму, которая по-прежнему шепталась с мамой Костика. Выслушав мое четверостишие, они вдруг посмотрели друг на друга в упор и припадочно захохотали.
В начале первого я заканчиваю интервью Анфисы Чеховой, полностью написанное мною. Катя выходит из своего кабинета и жестом зовет меня следовать на собрание.
— Сашенька, идем, да?
Я встаю из-за стола, беру остро заточенный карандаш, тетрадку, изрисованную тиграми, и послушно плетусь за ней на седьмой этаж, в конференц-зал. Мы с Катей спускаемся по лестнице, идем по коридору и сворачиваем в помещение, где так много народу и у всех такие напряженные лица, как будто сейчас им расскажут, почему мужики после секса отворачиваются к стенке. Ну… Или что там их волнует?
Во главе стола, как и полагается, сидит Третьяков.
— Здравствуйте, Миша, извините. — Катя шутливо поклонилась Третьякову, который традиционно вперился в меня. — Мы тоже к вам хотим.
— Привет, Кать, — Третьяков поднялся, чтобы поцеловать ее в щеку, — все к нам хотят.
Раздался такой оглушительный хохот, как будто прозвучало что-то действительно смешное.
Катя села рядом с Третьяковым, ей, кажется, кто-то даже освободил стул, а я нашла себе местечко в задних рядах. Но, как назло, прямо под Мишиным пристальным взглядом.
Начались разговоры о рекламных бюджетах, о том, куда приткнуть спонсоров, как отбить деньги на смс-голосовании. Я упорно рисовала в блокноте нового тигра. Третьяков шутил, все отзывчиво ржали, и даже Катя. Специально для нее я тоже смеялась вместе со всеми.
Девушка из рекламного департамента, потерпев фиаско с быстродействующим гелем от геморроя, предлагала теперь но-шпу. Ее упорство понятно — она получит процент от продаж. Пускай небольшой, но получит.
— Ну, давайте так, — говорит Третьяков, — мы спешно организуем группу «Но-шпа», напишем песню, и вы все свои отобьете. Такой народный треш.
Дальше все начинают на полном серьезе это предложение обсуждать и даже приходят к положительному результату.
Через сорок минут Миша говорит:
— Ну, вроде все?
— Да. У нас все, — отвечает Катя.
— Ну и отлично. — Он картинно хлопнул в ладоши, и все стали подниматься со стульев и с шумом задвигать их под большой стол для переговоров.
Катя подошла к Третьякову, и он что-то возбужденно ей втолковывал, а она кивала в ответ.
Они стояли у самого выхода, и я попробовала проскочить, но Катя меня заметила и остановила протянутой рукой.
Я встала рядом с ними с видом покорной идиотки. Третьяков то и дело бросал взгляды на мою грудь. Чем-то я его, видимо, зацепила.
— Сашенька, — сказала наконец Катя, — я хочу, чтобы вы с Мишей держали постоянный контакт.
— Да мы и так… ну, это… держим, — сказала я, не глядя на Третьякова.
— Все ок, Кать, — отозвался он, — Саша — один из лучших твоих сотрудников.
— Да? — Катя подняла брови. — А остальные мои сотрудники тебе нравятся меньше?
Следующие пять минут Третьяков потратил на комплименты остальным сотрудникам, а я получила шанс слинять. Обед.
Обедать мы обычно ходили в «Асторию», неведомо как уцелевшую в мире победившего чистогана советскую жральню, где подавали блюда моего школьного прошлого — десяти лет, в которые я разучилась смеяться. «Астория» изобиловала такими яствами, как: холодец с хреном, биточки, припущенные в томатной пасте, и курица «по-французски», представлявшая собой отбитый до бумажной тонкости фрагмент грудки, обильно приправленный дешевым майонезом, который продают на оптушках в ведрах.