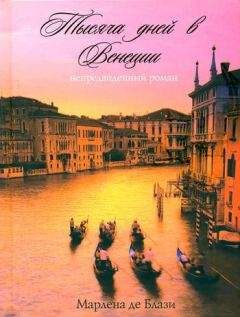Иван Катаев - Ленинградское шоссе
Алексей показался в дверях неожиданно. Все смолкли. Он приветствовал поднятой рукой, по-пионерски; прошел к столу, тяжело топая яловыми сапогами. Задвигались, весело здороваясь, освободили ему место. Щурясь, он обвел взглядом родню, потер руки, сказал бодро:
— Ну что ж, братцы-сестрицы, налейте беспартийному… Буду догонять.
Что-то неловкое, связывающее сразу натянулось за столом. Напряженно улыбались. Извозчик привстал, радостно и угодливо налил рюмку, расплескал:
— Пожалте, Лесей Саввич, кушайте.
Но Алексей отставил рюмку.
— Этот калибр мне неподходящий, — усмехнулся он. Взял чайный стакан, налил сам доверху.
Мать с первой минуты тревожно следила за всеми движениями старшего сына. На нее как бы пала всегдашняя тень его неустроенности и заволокла спокойный свет души. Она робко попросила:
— Ты, Лешенька, не очень натощак-то. Побереги себя.
Алексей нахмурился.
— Не беспокойтесь, маменька, я не барышня.
Он медленно осушил стакан, сдунул воздух на сторону, присмотрелся к закускам.
— Это что же, все из тайного закрепителя своего натаскали? — спросил он неизвестно кого и подвинул к себе коробку с крабами. Поковырял вилкой, понюхал. — Нет, уж мы лучше селедочкой закусим, по-пролетарски. А это, видно, для сильно ответственных, — воняет как-то уж очень сложно.
Костя Мухин сказал, не стерпев:
— Ты что это, Алексей Саввич, я гляжу, все как-то кобенишься нынче? Не в духе, что ли, или с устатку?
— Почему не в духе? — удивился тот. — Я очень даже в духе. Это вы все молчите чего-то. Полагается так на поминках?.. А то, может, я помешал?..
— Брось, Алешка, вола крутить! — крикнула ему через стол Александра, разрумяненная вином и похорошевшая. — Давай лучше выпьем. Сто лет не видались.
Они чокнулись, выпили. Алексей зажевал, сильно двигая скулами.
— Значит, закопали старичка? — спросил он спустя несколько минут примирено. — Жалко все-таки, безобидный был старик. Пожил бы еще, постучал бы молоточком… Слышал я, будто его жилец наш терроризировал… Как его?.. Ну, обсосок этот… с гетрами?..
Ему никто не ответил. Алексей отвалился на спинку стула, шумно вздохнул:
— До чего же много развелось всякой дряни мелкой в последнее время!.. — И прибавил, рассмеявшись: — Да и крупной тоже… А этому самому Альфонсу, — вдруг крикнул он, — ему недолго брючками дрыгать, я ему вобью голову в плечи, — он резко стукнул кулаком по столу. — Пусть не воображает много… тля несчастная…
У извозчика от восторженного внимания даже пот проступил на побагровевшем лице и лоснился нос. Беспризорник, ухмыляясь во весь рот, ждал, не будет ли чего похлеще. Столяр, по-прежнему безмолвный, мрачно дочищал коробку с бычками. Остальные смотрели на Алексея с беспокойством.
Но он закончил неожиданно вяло, пропаще махнул рукой:
— А впрочем — выпьем… Если все начать в порядок приводить, кулаков не хватит… — И потянулся с бутылкой к Сережиной рюмке.
— Выпьем, профессор!
Сережа смущенно отказался, отговариваясь вечерними делами. Костя положил ладонь на свою стопку, сказал:
— Ни-ни-ни! Почки.
— Ка-кие нежности при нашей бедности! — покривился Алексей. — Костька Мухин тоже в интеллигенты приписался! Эх, вы, мужья государственные… Ну, мы тогда вот с папашей объединимся… Папаша, видать, гражданин простой, безответственный, — бормотал он, разливая, — поддержит беспартийную инициативу…
Извозчик поддержал, столяр тоже, все трое усердно чокались, опрокидывали, бородач уже лез целоваться, вытирая губы кулаком. Дуняша, сидевшая рядом со свекровью, наклонилась к ней, показала глазами на Алексея:
— Перестать бы ему…
Старуха горестно покачала головой.
— Не остановится теперь, — шепнула она. — Я уж знаю. Что отец, что он, — одинаковые.
Говоря это, она думала только про вино, для которого и Савва и первенец его, начав, равно не знали меры. Но памятью долгих семейных лет отец сливался со старшим сыном и в общем, не очень явственном, но мощном единстве, намного превышавшем сходство его с другими детьми. Что тут было? Та же ли неудобная угловатость всего существа, тяжесть в кости, насупленный взгляд или еще что-то необозначимое, скрытое во всей жизненной повадке, судьбе?.. Бывали полосы, — будто и слабело сродство, сходило на нет: в годы фронтовые и потом, когда Алексей работал в профсоюзе, туговато, но все же продвигался на посты; тогда светлел немного, мягчал, накупал книжек, не пил, чуть-чуть было не женился однажды. Зато уж, как заявился прошлую весну домой, — тут оказалось: прямо-таки хлынула в него сплошная темнота отрешенности, незадачливости, одиночества, — то, что было и у Саввы, особенно с беженских времен, только, конечно, у того попроще, поглупей. Он, Алексей, забрел в этот окраинный, насквозь промерзавший за зиму, пахнущий уборной домишко, забрел с дороги, как дезертир, соскочивший с эшелона, без литера и аттестата, и здесь-то, в родительской тишине и скудости, вполне завладела им темная пантелеевская первобытность. Вот и сейчас, тяжеля промеж сестер крупной, коротко стриженной головой, с плохо отмытой сажей на лице, в черной сатиновой рубахе, костистый, небритый, он темнел, темнел, наливался сумрачностью и, хоть примолк, но видно было, что заходит, как туча, и — чуть что — может прорваться всей своей нависшей бедой.
Он был уже трудно и беспросветно пьян.
Прорвался же очень быстро, нелепо и отчаянно, а всему первопричиной был бородатый извозчик.
Среди утомленно стихающего застольного шума Сережа с Костей негромко разговаривали на своем углу, сблизив головы. Незаметно для себя увлекаясь и повышая голос, Сережа начал рассказывать об опытах по переводу автотракторных моторов на сырую нефть. Извозчик повернулся в его сторону, стал прислушиваться. Он тоже был пьян, но весело и хитро.
— А вот объясните мне, граждане, — вдруг прервал он Сережу. — Вы все об автомобилях да об тракторах… И действительно, тракторов вы напустили в деревню большой количество. Прямо треск стоит… А вот что-то не выходит у вас ничего… — И он обвел взглядом стол, ласково улыбаясь.
Все молча смотрели на него.
— Так, может, они и без надобности нам, трактора? — совсем взвеселился извозчик. — Не сопрягается с машиной мужик, неинтересна она ему. Может, оно с коньком и лучше бы вышло? Без шуму, без треску… Идет себе конек, за коньком плужок, за плужком мужичок… Над косогором зорька чистая. И сыты все и рады…
— А у тебя их много было, папаша, коньков-то? — тоже весело спросил Костя Мухин и, подавшись к нему, внимательно облокотился на стол.
Бородач медленно поводил пальцем перед носом, счастливо сощурившись.
— Ты меня щупаешь, милый гражданин?.. Молодой ты, а вдумчивый. На думках всю и прическу потерял. Ну, щупай меня, щупай, вот он я, весь тут. Имущество мое пытаешь? Вот оно, у коновязи, все мое имущество. С постоялого к Трухмальной, с Трухмальной на Каланчевку, двугривенный без запросу… Давай за так до дому подвезу, услужу свойственничку. Меринок, хоть без малого тебе ровесник, да ходкий еще.
— Гладкий, гладкий меринок, — кивал Костя. — Пролеточка вот только совсем развихлялась, бренчит вся, спасу нет. Давно ездишь, что ли?
— Да не сказать, чтоб уж так давно. Сильно подержанная была пролеточка, — это то есть когда перекупил-то я ее.
— А сам, значит, недавно промышляешь?
У бородача опять счастливой влагой блеснули проворные глазки.
— Да уж я тебе докладал, милый гражданин, что не так давно.
— А все ж таки? Года два, что ли, третий?
— Вот поди ж ты! — восхитился извозчик. — Ведь прямо как по картам… Ну, в самую, самую точку!.. На крещенье третий год пошел. Гадай, гадай, парень! С тобой и поговорить лестно, — уж такой ты сведущий.
— Так я ж, папаша, без всяких, не иначе как для поддержания беседы, — ухмыльнулся Костя и под столом толкнул Сережину ногу. — Я слыхал, ты пензенский сам-то?
— Пензенский, пензенский, Мокшанского уезду.
— Вот видишь, почти что земляки выходим мы с тобой. Я сам саратовский. А только почему ж ты, землячок, деревеньку свою покинул, по какой такой причине?.. Или тракторов испугался? Трещат, говоришь?..
Бородач расколыхался блаженным смехом.
— Ах ты, ах ты!.. — умиленно разводил он руками. — Ну что ж это за парень такой!.. Так ведь и бреет, так и бреет под низок… А если я тебе… — он вдруг шатнулся к Мухину и уставился на него с какой-то сонной, соболезнующей усмешкой. — Если я вот так возьму и выложу тебе: покинул, мол, все свое нажитое-доброе и от новых порядков в Москву подался. Что ж ты меня, свойственничек, сразу за химку и с поминок прямо в отделение поволокешь? Или я крепостной какой, чтобы мне ни на шаг от своего наделу? Или я не вольный человек коммунистической республики?.. Ну, как ты со мной распорядишься?..
— Товарищи, он кулак! — выпалила Зина испуганно.