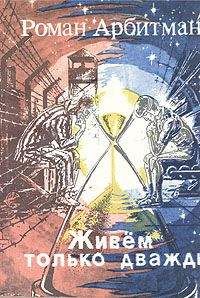Салман Рушди - Стыд
А однажды Омар-Хайам даже заблудился. Он исступленно метался по закоулкам — так, наверное, путешественник во времени, лишившись своей чудесной машины, страшится навечно затеряться в пучине истории — и вдруг замер в ужасе на пороге комнаты: сквозь разваленную стену к нему тянулись толстые древесные корни-щупальца, словно умоляя напоить. Было ему в ту пору лет десять, и вот тогда-то в первый раз он увидел белый свет без оков и уз. Стоило только шагнуть в пролом, и… Но столь неожиданное чудо застало его врасплох. Уже занимался рассвет, и Омар-Хайам в страхе повернул вспять, назад в свои покойные покои. Потом, когда страхи унялись и он все хорошенько обдумал, мальчик попытался повторить ночное путешествие, даже запасся мотком веревки… увы, и с помощью этой ариадниной нити не смог он найти в хитроумном лабиринте своего детства обиталище запретного рассветного минотавра.
— Иногда я даже скелеты находил, — клялся он недоверчивой Фарах, — и человечьи, и зверячьи.
Но даже там, где скелетов не было, казалось, пращуры нынешних хозяек неотступно следовали за мальчиком. Нет, они не выли, не гремели цепями, как надлежит настоящим привидениям, а витали вокруг, испуская тлетворный запах копившихся издревле чувств: надежды, страха, любви. Эти призраки подстерегали Омар-Хайама в потайных уголках запущенного дома и полновесной прародительской пятой давили на мальчика. И вот, не выдержав, Омар-Хайам, вскорости после потрясения у разрушенной стены, отомстил своему противоестественному окружению. Отомстил дико, по-варварски — даже рассказывая об этом, хочется крепко зажмуриться. Вооружившись шваброй и похищенным топориком, он вихрем пронесся по грязным коридорам и причудливо убранным спальням, сокрушил на пути стеклянные шкафчики, подернутые пылью забвения диваны; обратил во прах древние, изъеденные червем фолианты; досталось и хрусталю, и картинам, и старинным ржавым шлемам; он нанес смертельные увечья бесценным шелковым, тонким, как бумага, гобеленам.
— Вот вам! Получайте! — вопил он среди бездыханных жертв — немых свидетелей его детства, насладившись бессмысленной жестокостью. — Поделом, старье вонючее! — И вдруг, вопреки всякой логике, уронил смертоносное орудие и столь исполнительную швабру и горько расплакался.
Надо сказать, что в ту пору никто не верил рассказам мальчика о том, что дом — без конца и края.
— Дитя и есть дитя, — усмехалась Хашмат-биби, — чего только не придумает!
Подшучивали над Омаром и слуги:
— Послушать тебя, сынок, на всем белом свете, кроме нашего дома, места ни для чего не хватит!
А три матушки, сидя на любимом диване-качалке, преспокойно выслушивали все рассказы, гладили сына по голове и однажды подвели итог.
— У мальчика богатое воображение, — определила средняя мама Муни.
— Неспроста он такое имя носит, — подхватила мама Бунни.
А мама Чхунни встревожилась, не гуляет ли мальчик по ночам во сне. И приказала слуге спать у порога комнаты Омар-Хайама.
Но к тому времени мальчик сам запретил себе наведываться в дразнящие воображение уголки Нишапура. После жестокой расправы над прошлым (ни дать ни взять, волк, точнее, волчий выкормыш в ов— чарне) Омар-Хайам Шакиль счел за благо появляться только в обжи— тых покоях.
Некое чувство — возможно, пробудившаяся совесть — привело его в дедов кабинет с темными деревянными панелями и множеством книг. Сестры Шакиль не наведывались туда со дня отцовой смерти. Там-то внук и обнаружил, что дедова ученость — миф, равно и его якобы острый, деловой ум. На всех книгах значился экслибрис неко— его полковника Артура Гринфилда, многие страницы так и остались неразрезанными. Когда-то библиотека принадлежала этому господи— ну, и старый Шакиль закупил ее, так сказать, оптом, а потом за дол— гие годы не удосужился открыть ни одной книги. Зато юный Омар-Хайам набросился на них с жадностью.
Пора воздать должное омаровым способностям к самообучению. Когда он покинул стены Нишапура, он уже владел классическим арабским и персидским языками, не считая латыни, французского и немецкого. И все — с помощью лишь словарей да книг лжеученого гордеца деда! Чем только не зачитывался мальчик! Богато иллюстрированными стихами Талиба, многотомными письмами к сыновьям Великих Моголов, бертоновскими переводами «Тысячи и одной ночи», «Путешествиями» Ибн Баттуты, приключениями сказочного Хатема Тайского… Да-да, вот и отходит прочь («Прочь!» — это уже из обращения Фарах к нашему герою) несостоятельный образ дитяти джунглей, Маугли.
Тем временем с помощью подъемника из дома в лавку ростовщика беспрерывно переправлялись самые разнообразные вещи, а за ними открывались новые сокровища, доселе сокрытые в залежах хлама. Огромные комнаты, до потолка набитые всякой всячиной — наследством многочисленных стяжателей-предков,—мало-помалу пустели, так что на одиннадцатом году жизни маленькому Омару уже не мешали резвиться бесчисленные шкафы и комоды. Настал день, и матушки послали слугу в отцовский кабинет — они решили, что отныне смогут обойтись без ширмы каштанового дерева с тончайшей резьбой: на священную круглую гору Каф слетелись тридцать птиц, искавших божественную истину. Когда птичье собрание убралось из дома, взгляду Омар-Хайама предстал маленький книжный шкаф, набитый томами по теории и практике гипноза: санскритские мантры, трактаты персидских мудрецов, книга финского эпоса «Калевала» (в кожаном переплете), опыты преподобного Гаснера по изгнанию духов с помощью гипноза, анализ теории «животного магнетизма» самого Франца Месмера, а также (что, пожалуй, оказалось самым ценным) несколько дешевых самоучителей. Мигом проглотил их Омар-Хайам; только эти книги из всей дедовой библиотеки не были когда-то достоянием начитанного полковника, только они — подлинное дедово наследство, и только им суждено на всю жизнь вовлечь Омара в столь загадочную и страшную науку — ведь ей подвластны силы добра и зла.
У домашней прислуги занятий находилось едва ли больше, чем у юного хозяина — с годами матушек все меньше и меньше заботили чистота в доме и вкусная пища. Нетрудно догадаться, что трое слуг оказались первыми и добровольными участниками омаровых опытов. Юный гипнотизер сосредоточивал их внимание на блестящей монетке и подчинял своей воле. У Омара обнаружился талант, чем он немало гордился. Ровно и спокойно приговаривая, он вводил своих подопечных в транс и выслушивал бессознательные, но любопытные исповеди. Слуги, в частности, поведали секреты своей половой жизни. Оказалось, что, в отличие от хозяек, у которых после рождения ребенка угасли некоторые естественные потребности, мужчины не отказались от радостей земных, даря ласки друг другу и благословляя хозяек за то, что, отказав слугам в свободе, те открыли подспудные желания, снедавшие всех троих мужчин. Их взаимная любовь как бы дополняла не менее сильную взаимную (хотя и платоническую) привязанность сестер. И все же в хороводе этих дружб и симпатий Омар не становился мягче и добрее.
Поддалась его уговорам и Хашмат-биби. Ей Омар внушил, что она парит на мягком розовом облаке.
— Ты все глубже погружаешься в облако, — уложив старуху на циновку, мурлыкал гипнотизер, — все глубже, все глубже… тебе хорошо… хочется раствориться в облаке…
Кончились его опыты весьма прискорбно. Не успел мальчик отметить двенадцатый день рождения, как преданные слуги доложили матушкам, сурово поглядывая на молодого хозяина, что Хашмат, похоже, внушила себе: пора расставаться с жизнью. Последние ее слова были: «все глубже и глубже… растворяюсь в розовом облаке…». Очевидно, благодаря стараниям юного медиума, старушке увиделся потусторонний мир, и вмиг ослабла железная хватка Хашмат, перестала она держаться за жизнь (по ее словам — немалую, в сто двадцать лет). Матушкам пришлось подняться со своего дивана и наказать Омар-Хайама: никаких больше гипнотических опытов! Но к тому времени интересы Омара и без того переменились, ознаменовав начало новой жизни. И придется немного повернуть вспять, дабы рассказать о переменах.
В мало-помалу пустеющих комнатах Омар-Хайам нашел кроме книг кое-что еще — телескоп, о котором уже упоминалось. С его помощью мальчик следил за окрестностями с верхнего этажа, где окна, в отличие от нижних, не были наглухо забраны ставнями и заперты на засов. В круглом блестящем окошечке омаровой луноликой радости умещался весь белый свет. Интересно наблюдать бои маленьких воздушных змеев на черных, пропитанных кашицей из риса и битого стекла бечевках, острых как бритва, способных срезать вражеского «змееныша». До мальчика доносились крики победителей — они прилетали в комнату с легким ветерком. А однажды в окно залетел бело-зеленый сбитый змей. А потом — уже близилось омарово двенадцатилетие— луноликий дружок показал Омару Фарах Заратуштру, и не было сил отвести от нее взор. В ту пору ей только минуло четырнадцать, но в каждом ее движении угадывалась хитрая женская суть. Вот тут-то все и переменилось: голос у Омара сорвался и стал с того дня ломаться. Сорвалось что-то и в низу живота — то опустились яички в детскую доселе мошонку. И вся тоска по свободе отозвалась тупой, ноющей болью в паху. Вдруг она разом поднялась, вскипела… и все разрешилось самым обычным и, пожалуй, неизбежным способом.