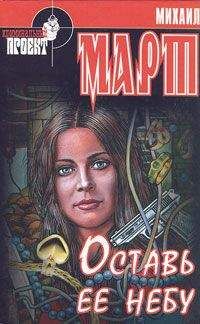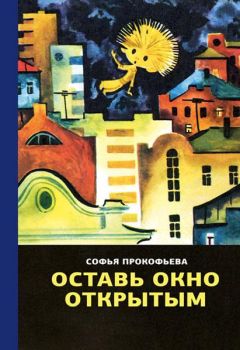Натали Саррот - Детство. "Золотые плоды"
Теперь у меня уже несколько флаконов, все они разные, но каждый по-своему великолепен.
Целая коллекция выстраивается на моем камине, никто, кроме меня самой, — это мне обещано — не вправе до нее дотронуться.
Если я беру один из флаконов с собой, я его во что-нибудь заворачиваю, не хочу, чтобы его могли коснуться чужие взгляды, легкомысленные слова.
— Странно, стоило тебе уехать — и увлечение флаконами прошло.
— Да, правда, я не взяла с собой ни одного. Может, потому, что перестала играть с ними, когда болела... какой-то неопасной, но заразной болезнью... ветрянкой? краснухой? Я лежу в своей кроватке, у стены, в глубине своей комнаты, слегка затемненной большим деревом, дверь ее ведет в мамину спальню, и я понимаю, что у меня высокая температура, понимаю потому, что они здесь... они непременно находятся здесь, когда мое тело и голова пылают!., маленькие человечки, высыпающие из мешков песок, песок течет во все стороны и всюду проникает, а они все сыплют и сыплют, и не знаю почему меня так пугают горы песка и суета этих гномов, я хочу остановить их, хочу закричать, но они меня не слышат, мне не удается закричать по-настоящему.
Когда температура упала, мне разрешили садиться в кровати... горничная, присланная тетей, убирает в комнате, перестилает постель, моет меня, причесывает, поит и кормит... Мама тоже здесь, но я вижу ее только сидящей за столом, она пишет на огромных белых листах, которые нумерует большими цифрами, покрывает своим крупным, размашистым почерком и бросает их на пол, когда исписывает их. Или мама сидит в кресле и читает...
— Будь справедлива, бывало и так, что во время болезни она присаживалась с книгой у твоей кровати.
— Да, случалось, и не со своей книгой, а с моей... я вспоминаю ее, я хорошо ее знала... Это была «Хижина Дяди Тома», детское издание. Большая книга в картонном переплете, с сероватыми гравюрами. На одной из них Элиза перескакивала с льдины на льдину со своим ребенком на руках. На другой — умирал дядя Том, а рядом, на соседней странице, описывалась его смерть. Обе они были слегка покороблены, буквы стерлись... так часто капали на них мои слезы...
Мама читает мне своим низким голосом, без всякого выражения... слова выходят твердые и четкие... временами у меня создается впечатление, что она не думает о том, что читает... когда я говорю ей, что хочу спать или что я устала, она сразу закрывает книгу, мне кажется, она это делает с облегчением...
— Ты и вправду тогда это чувствовала?
Думаю, да, я это ощущала, но не судила ее... Разве не естественно, что детская книжка не интересует взрослую женщину, которая любит трудные книги? Только потом, когда я встала с постели и могла уже спуститься в сад...
— Здесь кончаются «прекрасные воспоминания», по поводу которых ты так угрызалась... слишком уж они «соответствовали образцам»...
— Да, они очень скоро обрели преимущество быть единственными в своем роде... Я стою в своей комнате, еще не твердо держась на ногах, и слышу через приоткрытую дверь, как мама говорит кому-то: «Подумать только, я все время сидела здесь взаперти с Наташей, и никому даже в голову не пришло меня подменить». Но то, что я почувствовала в ту минуту, быстро стерлось из памяти...
— Скорее ушло вглубь...
— Возможно... во всяком случае, достаточно глубоко, чтобы я ничего не замечала. Хватает жеста, ласкового слова мамы, или попросту, чтобы я увидела, как она сидит в своем кресле, читает, поднимает удивленно голову, когда я подхожу и что-то говорю ей, она смотрит на меня сквозь свой лорнет, стекла увеличивают ее лучистые карие глаза, они кажутся огромными, полными наивности, невинности, добродушия... и я прижимаюсь к ней, приникаю губами к тонкой и шелковистой коже, такой нежной на лбу, на щеках.
Точно в какой-то просвет выныривает из серебряного тумана всегда одна и ты же улица, покрытая толстым слоем снега, белого-пребелого, на нем нет ни следов, ни колеи, и я иду по этой улице вдоль забора, который выше меня и сбит из тонких деревянных досок, заостренных на конце...
— Это я и предсказывала: неизменно один и тот же образ, неколебимый, запечатлевшийся раз и навсегда.
Да, правда. А вот другой, неизменно возникающий при слове «Иваново»... это длинный деревянный дом, множество окон по фасаду, каждое увенчано кружевом узких резных деревянных наличников... огромные сосульки гроздьями свисают с крыши, сверкают на солнце... двор перед домом покрыт снегом... Ни одна деталь никогда не меняется. Напрасно я ищу, точно в «игре в ошибки», я не нахожу даже ничтожнейшего различия.
— Вот видишь...
— Да... но это сильнее меня, мне хочется ощупать, погладить, облечь этот застывший образ словами, но без нажима, я так боюсь повредить его... И пусть они проникнут сюда, внутрь дома, в эту большую комнату с ослепительно белыми стенами... сверкающим паркетом, по которому разбросаны яркие ковры... диваны, кресла покрыты ситцевыми чехлами в цветочек... разнообразные растения в больших горшках... в окнах между двойными рамами проложен слой белой ваты, припудренной серебряными блестками. Ни один дом на свете никогда не казался мне таким красивым. Настоящий дом из рождественской сказки... и к тому же — дом, где я родилась.
— И однако, что-то мешает ему существовать среди «прекрасных воспоминаний детства», а дом твоего дяди имел на это право.
— Знаю, что — отсутствие мамы. Она не появляется там никогда, ни на мгновенье.
— Она бы появилась, будь у тебя, как у других, дар сохранять воспоминания, уходящие очень глубоко... у некоторых — чуть ли не до рождения на свет...
— Да, но в этом смысле мне не повезло... у меня не осталось ничего от того, что предшествовало моему отъезду из Иванова в возрасте двух лет, и ничего от самого этого отъезда, ничего ни от папы, ни от мамы, ни от Коли, с которым мы с мамой, как я узнала уже потом, уехали сначала в Женеву, потом в Париж.
Но в этом доме отсутствует не только мама. Из всех, кто там всегда находился, когда я время от времени возвращалась туда на несколько недель, я вижу только отца... его прямой и тонкий силуэт, всегда словно чуть напряженный... он сидит на краешке дивана, я у него на коленях, лицом к высоким окнам, полностью скрытым белыми тюлевыми занавесками. Он учит меня, как их сосчитать... Может ли это быть? но я ясно помню... я считаю до десяти, потом — еще одно, последнее, с ним — одиннадцать...
Я стою перед ним, между его расставленными ногами, мои плечи на уровне его колен... я перечисляю дни недели... понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье... а потом опять понедельник, вторник... «Хватит, ты теперь знаешь их... — А что потом? — Потом все начинается сначала... — Всегда одинаково? И до каких пор? — Всегда. — Даже если я буду повторять снова и снова? Целый день? Если буду повторять всю ночь? снова будет возвращаться понедельник, вторник, и так всегда? — Всегда, глупышка...» Его рука скользит по моей голове, я чувствую, как из него исходит что-то, что он держит в себе на запоре, что он не любит показывать, но здесь, я чувствую, это проникло в его руку, которую он быстро отнимает, в его глаза, в его голос, произносящий уменьшительные имена, которые он один образовывает из моего имени — Ташок или уменьшительное от этого уменьшительного: Ташочек... и еще одно смешное имя, которое он мне дал, — Пигалица... когда я спрашиваю его, что это такое, он отвечает, что так называется маленькая птичка.
Мне нравится проводить рукой по его худым, немного шершавым щекам, зажимать кожу между пальцами и оттягивать ее, щекотать ему затылок... он ласково отталкивает меня... или иногда, когда он совсем этого не ждет, чмокнуть его в самое ухо и глядеть, как он, оглушенный, засовывает в ухо палец, шевелит им там, трясет головой... Делает вид, будто рассердился... «Что за дурацкая игра...»
Он часто говорит со мной по-французски... Мне кажется, он говорит прекрасно, только вот «р» раскатывает, я хочу научить его... Послушай, как я произношу «Пари»... Прислушайся, «Пари»... ну, а теперь произнеси, как я... «Пари»... да нет же, не так... он забавно копирует меня, нарочито утрируя, точно он ободрал себе горло... «Паррри»... Он отвечает мне тем же — учит произносить русское «р»: я должна прижать к небу, потом распрямить кончик поднятого языка... но напрасно я стараюсь... А, вот видишь, теперь у тебя не получается... и мы смеемся, мы любим весело подтрунивать друг над другом...
Везде я вижу только отца. Теперь мне кажется, что все предметы вокруг нас — в руках невидимых существ.
Ложка, осторожно описывая круг по самому краешку, где не так горячо, набирает вкусную манную кашу на молоке, широко расплывшуюся по тарелке... ложка поднимается к моему рту, чтобы я подула...
Ложка, полная клубничного варенья, приближается к моим губам... я отворачиваюсь, не хочу больше... какое оно противное, я не узнаю его... что с ним случилось? что-то примешалось к его обычному приятному вкусу... что-то гадкое проскользнуло и притаилось в нем... меня тошнит от него. «Мне не нравится, это не настоящее клубничное варенье. — Нет, настоящее, посмотри сама»... Я внимательно разглядываю тонкий слой варенья, размазанного по блюдечку... ягоды и правда те же, что и всегда, только чуть светлее, не такие красные или темно-розовые, как обычно, но на них и между ними какие-то подозрительные белесые разводы... «Нет, посмотрите, там что-то есть... — Ничего там нет, тебе кажется...» Когда отец приходит домой, я рассказываю ему, что не захотела есть это варенье... оно нехорошее, я его рассмотрела: в нем какие-то белые разводы, белые точечки, и вкус противный... это не клубничное варенье... Он смотрит на меня, минуту колеблется, потом говорит: «Это настоящее клубничное варенье, а то, что ты видела, — каломель, в варенье подмешали немного каломели, надеялись, что ты ничего не заметишь, я знаю, ты ненавидишь каломель, но тебе обязательно нужно принимать ее...»