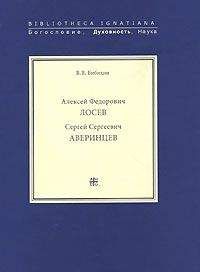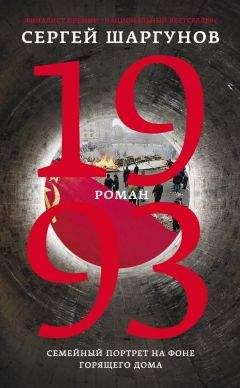Сергей Шаргунов - Птичий грипп
ОТЕЦ: Над кем? Над самим собой? Мелет, мелет… Никому не верю, а интересно. Философ из трех букв. Был такой в Китае. Я его в анталогии вычитывал.
СЫН: А помнишь, мама, ты мультики рисовала. Я с детства знал, как это так делается, что в телевизоре Волк за Зайцем гонится. Не верил, а смотрел с большим интересом. С тем же интересом, как остальные дети, которые не знают, откуда мультики берутся. Политика, борьба – это полная лажа. Игра это. Но интересно. Не сама игра интересна. А игроки вот эти прорисованные. Они верят, когда скачут, они не знают, что их нарисовали… Но может, это я рисованый, а они – живые?
ОТЕЦ: Заливаешь ты чего-то, сынок. Смотри мозги не выверни.
МАТЬ: Степа, ты бы отдохнул. Вон Егор соседский, каждую зиму в Турцию ездит. А ты все в Москве торчишь.
СЫН: Мне от Москвы никуда не деться. Вся политика в одной Москве. Все мои подопечные – тут.
ОТЕЦ: Турцию предложила… Для этого деньги нужны.
МАТЬ: Да накопить он мог бы.
ОТЕЦ: Родителям-то помочь – не дорос пока?
СЫН: Мало, мало денег.
МАТЬ: Устроился бы на нормальную работу. Сидел бы в офисе, дурака валял. У моей подруги Милы Сашка… Оклад две с половиной. В десять на работе, в девять вечера – уже дома. И не парится, никуда не лезет. Говорит ей: мать, сижу карты в компьютере раскладываю. Редко, когда у него командировка. А ты чего? У меня она спрашивает: кем твой Степа работает? Я и не знаю, чего ей отвечать.
СЫН: Не переживай.
ОТЕЦ: Мы же за тебя, балбеса, переживаем. Чтобы у тебя все наладилось.
СЫН: Да у меня и так…
ОТЕЦ: «Так», – сказал бедняк. Вон какое брюхо отрастил! Под рубашкой торчит. Щеки как у жиртреста. Я в твои годы крест держал на кольцах. Понимаешь? Весь был мышца одна, когда с твоей мамкой познакомились. А ты?
МАТЬ: Ну хватит, Толь, совсем застращали мальчика. Зато сейчас и ты какой толстый… Это у него конституция. Он уже в роддоме самым пухлым был. И лет ему всегда больше давали, в два года на четыре выглядел. Крупный ребенок.
ОТЕЦ: Ребенок… Мужик. Надо в форме себя держать в его годы! А он… Верю, не верю… Где работаю – не скажу…
СЫН: В фирме.
ОТЕЦ: Жениться не надумал?
МАТЬ: Куда ему…
ОТЕЦ: Смотри, Зоя, перед фактом поставит. Приведет какую-нибудь и заявит: все, родители дорогие, давайте к свадебке собираться.
МАТЬ: Степа не такой. Степа не горячий. Он сказать может всякое, а глупость он не выкинет…
ОТЕЦ: Хоть что-то в нем воспитали.
Голубой попугай
Степан хихикал над либералами, так бывает. Вот и стихи сочинял такие:
Пролетая Древней Русью,
За врагами бред любой
Повторял бы этот Мусин,
Попугайчик голубой.
По-татарски тараторя,
Мел бы снег его язык,
До Орды тропинку торя —
Лишь бы выпросить ярлык…
Либералы, либералки —
Их роднит стрелы напев,
Что дрожит у речки Калки,
В сердце русское влетев.
Молодых либералов вел Илья Мусин. При хилой комплекции у Мусина были возбужденные маленькие и веселые глазки, а также клювик. На головке воинственно топорщился хохолок.
Мусин одевался в голубой джинсовый костюм, под которым голубела голубая рубашка. Любил он джинсу, демонстрируя свой демократизм, мол, я такая умная шпана, гуманитарий-шалопай. Не сказать, чтобы наряжался Илья небрежно, джинсовый костюм сидел на нем ладно, да и был отменно чист и благоухал дезодорантом, но в классическом костюме он никогда бы не показался. Он сторонился образа номенклатурщика. Мусин выглядел как позитивный вожак студенческой шпаны с тем намеком, что – молодо-зелено, он такой весь из себя неформал, но в допустимых границах.
Он не пил и не курил. Хилая комплекция, кокетливая бородка. Писклявый голосок с диапазоном интонаций наглеца, подлизы, труса, рассудительного мальчика.
На публике Мусин постоянно был с одной блондинкой и каждый раз как бы с ней позировал. Ее звали Маша. Она была худа, просто скелет, часто курила и воспаленно краснела. Голубые глаза у нее были бессонные, с красными прожилками. Злая, стервозная, бесцеремонная, всем грубила. Тип корабельного юнги. Приятная своими натурально золотыми косицами, но щеки втянуты, глаза впали, скулы торчат.
Крохотный Мусин заявлял цель – «освободить страну от режима реакции» и «вернуть украденные свободы».
Начиная со школы он пытался участвовать в политике. И к двадцати трем годам встал во главе молодежного либерального фронта. Фронт объединял человек тридцать, но каких!
Участников фронта отличала миниатюрность. Как будто, едва родившись, они сразу же интуитивно начали равняться на будущего вождя и всеми силенками замедляли свой рост. Это факт: молодые либералы были компактных размеров. Что не отменяло их агрессии. Они были словно выводок рассерженных попугаев! Попугаи с готовностью принимались выкрикивать гневные кричалки. Порой на акциях они доставали ненавистный им портрет президента. И набрасывались на этот портрет с тем живейшим остервенением, с каким попугаи расклевывают булку. Они чуть ли не дрались между собой за то, кто клюнет мощнее. От портрета через минуту оставались жалкие клочки, а через две минуты не оставалось ничего.
Еще в мусинском фронте была Ляля Голикова.
Темная, пухлая, чуть выше Мусина, вровень со Степаном. Лялин папа в бытность премьер-министром взвинтил цены, обесценил вклады, его ненавидел народ.
Симпатичная, с пикантной ямочкой на щеке, ароматная девушка.
Степан начал за Лялей ухаживать.
Неверова привлекала диковинность ее репутации. Дочь премьера, которого большинство страны считало людоедом. Это же почти дочь Бокассо (диктатор-каннибал). Но и вид у нее был классный. Влажные мягкие карие глаза! Губки! Гримаски! Брови, четкие, словно начерченные углем! А эти груди сквозь пропагандистскую майку! Два полушария с эксцентрично-вздернутыми сосками… Степан стал ходить на собрания к либералам и на их акции. Пухлый и темный, он смотрелся рядом с Лялей как брат.
– Нам постоянно внушают, что парламент не место для дискуссий, – раздраженным электрическим тоном говорил Мусин на собрании. – Значит, у нас нет парламента.
Голубой попугай толкал речи каждую среду. Минут по пятнадцать. Собрания проходили в офисе с флагами на стенах. Флаги были пестрые, овеянные дубинками, из Югославии, с Украины.
Илья сказал, что через два часа улетает в Минск на демонстрацию. Прощально потряс всем руки. Тем временем его подруга блондинка Маша дерзила огромной космато-седой правозащитнице, заскочившей на огонек:
– Инна Борисовна, постричься не хотим? Я ведь курсы на парикмахершу кончала.
Степан подошел к Мусину:
– Рад был тебя услышать. Ты хорошо выступаешь, хоть сейчас в газете печатай. Я буду к вам теперь ходить. Да, либералов мало, но главное – не количество, а качество, главное – сознательность. И вера! – добавил Неверов. – Спасибо тебе, знаешь за что? А за то, что вера, вера пробуждается! Я вот верю, что не век нам лаптем кашу пресную хлебать. Мы – Европа, а при желании мы Европу перегоним!
Это сказав, Степан пожал ладошку Мусина, оказавшуюся влажной ледышкой, и переместился к Ляле.
Он обнял ее и вывел на воздух.
– Идем!
Он вел ее по Тверскому бульвару среди деревьев. Мимо скамеек с пивной молодежью. Половина восьмого, но темень мешкала, а небо по-теплому сияло.
На одной из скамеек Степа заприметил усохшую копию Воронкевича и тут же с ужасом понял, что это и есть Иосиф. О болезни ворона слух разошелся быстро – и теперь беглого взгляда хватило, чтобы понять: слух вещий. Иосиф сидел в глубокой задумчивости, один на один с собой, и даже скамья его, музейного экспоната революции, была одинока, не в пример другим скамейкам. Больного чурались… Желтый нос его странно загибался с хрящевой каплей на кончике, а костяное сжавшееся личико было даже не желтым, а зеленоватым.
– Восемь вечера, а солнце жарит, – напевно сказал Степан Ляле, быстро проводя мимо страшной скамьи, и обнял ее крепче, и на ходу они срослись в один приветливый жизнерадостный колобок.
– Не жми так! – Девочка игриво вильнула плечом, толкнулась бочком о его бочок и скосила пушистый глаз.
– Как? – спросил Степан. – Так? – Он рванул Лялю влево, к деревьям, сбил с тропы, прижал к корявому стволу тополя, обметанному цепким пухом.
И потянул ее на себя, сжав за виски.
Тотчас стало смеркаться.
Степан шарил по Лялиной груди, проникнув под майку и плотный бюстгальтер. Он целовал ее в губы, а потом начал подкручивать сосок, резко, грубо, так неистово, будто мстил ее папе за обобранный народ… Или мстил всему живому, плоти живой за тот кошмар, в который плоть превращается… Воронкевич отпечатался в глубине Степиных глаз.
Она не сопротивлялась, принимала жестокие пальцы. Он полез ей в черные брюки, не расстегивая их, по тряскому животику скользнул пятерней под тугой ремень. Попал в курчавую мякоть зарослей, ремень неудобно зажимал руку.
Сгустилась тьма, горели огни, пьяно ржала и звенела бутылками Москва. В этом пьяном хохоте, и в диких выкриках, и в протяжном гудении пробки с двух сторон бульвара потонул Лялин стон.