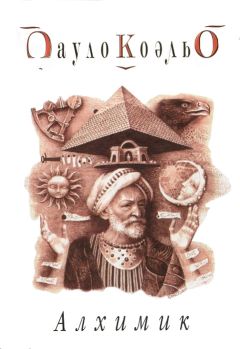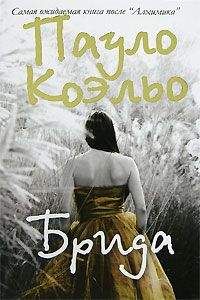Видиадхар Найпол - Территория тьмы
Мы, родившиеся позже, уже не могли отвергать Тринидад. Дом, в котором мы жили, был особенным — но не более, чем многие другие. Нетрудно было принять тот факт, что мы живем на острове, где обитают самые разные люди и стоят самые разные дома. Наверняка и у других имеются свои особенные вещи. Мы ели определенную пищу, исполняли определенные церемонии и соблюдали определенные табу; естественно было думать, что и другие люди живут на свой лад. Мы не желали разделять их обычаев и привычек и не ждали, что другие станут разделять наши. Они — это они, а мы — это мы. Нас никогда не учили этому. О том, что мы — индийцы в многонациональном обществе, мы как-то не задумывались. Критика извне существовала, как я теперь понимаю, но она никогда не проникала сквозь стены нашего дома, и я не припомню, чтобы в пору моего детства в семье когда-нибудь говорили на тему национальностей. Хотя я остро ощущал все эти различия, в национальных вопросах я, как ни странно, долго оставался полным невеждой. В школе меня удивляли курчавые волосы любимого учителя, и я пришел к выводу, что он, как и я, продолжает расти, а когда он еще немножко подрастет, то волосы у него сделаются прямее и длиннее. Национальный вопрос никогда не обсуждался, но уже в раннем детстве я понимал, что мусульмане отличаются от нас больше других. Им нельзя доверять, от них только и жди обмана. Словно подтверждением такого мнения служил один мусульманин, живший неподалеку от дома моей бабушки: его шапочка и седая борода словно обличали в нем человека особого рода и источника всяческих угроз. Ибо те черты отличия, в которых мы видели неотъемлемое свойство каждой группы, стоявшей вне нашей собственной, было легче заметить у других индийцев и еще легче — у других индусов. Научиться распознавать чужие национальности мне еще предстояло, а пока — и вплоть до недавних пор — для улавливания социальных противоречий, дающих жизни свой привкус, мы полагались на старые, индийские способы деления людей, сколь бы бессмысленными они ни успели сделаться.
Все, что находилось за пределами нашей семьи, несло на себе этот отпечаток несходства. С этим следовало мириться, когда мы отправились за границу, и, пожалуй, даже забывать об этом — как, например, в школе. Но стоило возникнуть угрозе контакта, взаимодействия — мы сразу же чуяли насилие и отстранялись. Помню, как однажды — это было уже позднее, после того, как наш семейный уклад разрушился, — меня повели в гости к одному семейству. Эти люди не были нашими родственниками, а потому сам визит запомнился как нечто необычное. Поскольку в голове у меня отложилось — наверное, из-за чьих-нибудь слов, — что они мусульмане, мне казалось, что они совсем на нас не похожи. Мне виделось это в их внешности, в их доме, в их одежде, а еще — чего я заранее боялся — в их пище. Нам предложили лапшу, сваренную в молоке. Я подумал, что это блюдо связано с каким-то неизвестным и отвратительным обрядом; к лапше я не притронулся. В действительности же те люди были индусами; позже наши семьи породнились.
Прежний семейный уклад неизбежно сошел на нет, и этот процесс ускорился благодаря нашему переезду в столицу, где индийцев было немного. Внешний мир все больше вторгался в нашу жизнь. Мы стали скрытными. Но однажды мы совершили открытую атаку на город. Моя бабушка захотела прочесть каттху, и захотела прочесть ее не иначе как под сенью священного фикуса. На всем острове имелся один-единственный священный фикус, и росло это дерево в Ботаническом саду. Туда и следовало обращаться за разрешением. К моему удивлению, нам дали разрешение; и вот однажды, субботним утром, мы сидели под священным фикусом, снабженным ярлыком с его ботаническим названием, а пандит[7] читал священный текст. В костер, где пылал священный огонь, были брошены кусочки смолистой сосны, коричневый сахар и топленое масло; звонили в колокольчики, ударяли в гонги, трубили в морские раковины. Мы вызвали молчаливое любопытство небольшой разномастной толпы людей, совершавших утреннюю прогулку, и прозелитский интерес со стороны одного адвентиста Седьмого Дня. Это была настоящая пасторальная сцена: арийский ритуал, явившийся сюда с другого континента и из другой эпохи, совершаемый в нескольких сотнях метров от губернаторской резиденции. Но это любование уже относится к более поздней поре. Тем из нас, кто ходил в то время в школу, публичные церемонии давались нелегко. Мы становились застенчивыми, сравнивали себя с другими: наш тайный мир быстро съеживался. Впрочем, изредка кто-нибудь из немногочисленных благочестивых индусов, живших в Порт-оф-Спейне[8], желал покормить брахманов. Тут мы и пригождались. Мы шли к ним, нас кормили, нас одаривали отрезами материи и деньгами. Мы никогда не задумывались, почему нам так повезло. Это представлялось простым везеньем, потому что сразу же после церемонии, шагая домой в брюках и рубашках, мы снова превращались в обычных мальчишек.
Хотя мне такое везение казалось слегка жульническим. Я происходил из семьи, в которой было много пандитов. Но сам я родился неверующим. Меня не радовали религиозные обряды. Они длились чересчур долго, а еду раздавали только в конце. Языка я не понимал (взрослые как будто ожидали, что мы все должны понимать чутьем), и никто не пояснял нам ни слов молитв, ни смысла ритуалов. Все церемонии походили одна на другую. Изображения не вызывали во мне любопытства, я никогда не пытался понять, что они значат. К моему неверию и нелюбви к ритуалам прибавлялась невосприимчивость к метафизике: очередная измена наследственности — ведь пристрастие моего отца к индуистским умопостроениям было огромным. Так вышло, что, выросши в ортодоксальной семье, я почти ничего не знал об индуизме. Так что же все-таки осталось во мне от индуизма? Возможно, я впитал кое-какую философию, которая впоследствии оказывала мне поддержку. Не могу этого утверждать; мой дядя часто говорил мне, что мое отрицание религии — вполне дозволенная форма индуизма. Копаясь в себе, я обнаруживал лишь то ощущение несходства людей, которое уже пытался объяснить выше, некое смутное чувство кастовой принадлежности, и отвращение ко всему нечистому.
Я до сих пор испытываю брезгливость, видя, как люди кормят животных из посуды, с которой едят сами; в школе я с той же брезгливостью наблюдал, как мальчишки лижут вместе «попсиклы» и «пэлэты» — так назывались местные сорта фруктового мороженого на палочке; с такой же брезгливостью я наблюдаю и сейчас, как женщины порой пробуют пищу с ложек, которыми помешивают свое варево в кастрюлях. Это было не просто «отличие»; это была та нечистоплотность, которой нам следовало остерегаться. Как ни странно, на сладости никакие пищевые ограничения не распространялись. Мы покупали маниоковые рожки на уличных лотках; а вот один вид кровяной колбасы в рассоле — любимого лакомства негритянского пролетариата, которое продавалось на уличных перекрестках и возле спортивных площадок, — гипнотизировал и ужасал нас. Казалось бы, при таких взглядах наша пища должна была оставаться неизменной. Но это было не так. Трудно понять, как именно происходило взаимодействие, но мы мало-помалу заимствовали чужие кулинарные привычки: на португальский манер тушили помидоры с луком — такой соус подходил к любому блюду; негритянским способом готовили ямс, овощные бананы, плоды хлебного дерева и бананы обычные. Все, что мы перенимали, становилось нашим; чужого по-прежнему следовало опасаться, и мои предубеждения были настолько сильны, что к той поре, когда я покинул Тринидад (это случилось незадолго до моего восемнадцатилетия), я всего три раза бывал в ресторанах. День, когда я стремительно перенесся в Нью-Йорк, стал для меня злосчастным днем: я бродил по этому городу испуганный и голодный; потом, на корабле, плывшем в Саутгемптон, я ел почти одни только сладости, и стюард, получив от меня чаевые, отважился заметить: «Другие совсем как свиньи стали. А вот вы — большой любитель мороженого».
Пища — вот первое. Второе — каста. Хотя я быстро понял, что это всего лишь часть нашей личной игры, порой это кастовое мышление могло влиять на мое отношение к другим. Одна наша дальняя родственница вышла замуж; ходили слухи, будто ее муж — из касты чамаров, кожевников. Этот человек был богат, много путешествовал; он добился успехов на профессиональном поприще и позже занял довольно ответственную должность. Но он оставался чамаром. Возможно, слухи были необоснованны — редкий брак не сопровождается подобного рода унизительной клеветой, — однако мысль об этом всплывает всякий раз, когда мы встречаемся, и то изначальное желание уловить в нем что-то чужое теперь повторяется непроизвольно. Это был единственный человек, на которого я смотрел с подобным предубеждением; моя родственница вышла за него замуж, когда я был совсем еще юным. В Индии люди тоже несут на себе клеймо своей кастовой принадлежности — особенно если о ней объявляется заранее, одобрительно или неодобрительно. Но в Индии каста была для меня чем-то иным, нежели на Тринидаде. На Тринидаде понятие касты не имело смысла в нашей повседневной жизни; представление о касте, в которое мы играли время от времени, было всего лишь признанием чьих-то скрытых качеств, а подсказки, которые оно предлагало, были подобны предсказаниям хироманта или гадателя по почерку. В Индии каста означала жесткое разделение труда; и в его центре — чего я никогда не понимал — находилось униженное положение уборщика отхожих мест. В Индии каста — явление отталкивающее; я никогда не любопытствовал, к какой касте принадлежит тот или иной человек.