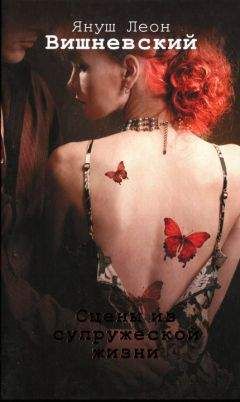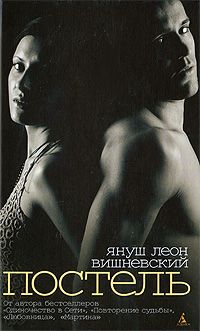Повторение судьбы - Вишневский Януш Леон
Марцин знал, что было в этом пакете. Со Дня всех святых мама порой до поздней ночи вязала для Гени льняную скатерть.
Семья Гениной сестры жила в Зиндлингене, запущенном рабочем квартале Франкфурта, населенного в основном иностранцами. Агата, сестра Гени, была католичка, ее муж Хорст – евангелист. По просьбе Хорста Рождество в семье всегда отмечают по-польски и по-католически. Хорст еще с первого Рождества в Щецине, когда приехал в качестве жениха Агаты просить у родителей ее руки, любит пироги с капустой, жареного карпа, селедку в сметане и то, как делятся облаткой. И вообще он утверждает, что Агата готовит лучший борщ во всей Германии. На один день, в Рождество, он становится истым польским католиком. Он даже способен без ошибки пропеть один куплет из «В яслях лежит…». Лишь одно ему не нравится в польском Рождестве – что утром пиво приходится пить тайком, потому как «до облатки длится пост». А вот после облатки уже можно официально. После пирогов, борща, получения подарков и пения колядок Петр сидел с Хорстом на кожаном диване в гостиной и под пиво пытался разузнать об условиях работы почтальона в Германии. И чем больше они пили пива, тем больше Петру казалось, будто он понимает, что ему говорит Хорст. Шимон с Матиасом – сыном Хорста и Агаты – закрылись в комнате на первом этаже. Около половины двенадцатого Геня принялась уговаривать всех пойти на службу в церковь. Уговорить удалось только Агату. Ближе всего от дома находилась евангелическая кирха.
– Совсем как наш костел, только иногда священником может оказаться женщина, – пошутила Агата.
Мужчины остались дома. Агата с Геней пошли на службу. Когда они вошли, в кирхе уже было полно народу. Они прошли в боковой неф, высматривая места. В предпоследнем ряду два были свободны. Геня направилась туда. Агата пошла за ней. Но вдруг из главного нефа появилась женщина и тоже направилась к свободным местам. Агата знаком показала Гене, чтобы та садилась, а сама встала у колонны. Женщина села рядом с Геней. Заиграл орган, вышел пастор. Началась рождественская служба.
Женщина, севшая рядом с Геней, вырвала чеки двух ручных гранат, лежавших у нее в сумке. Это произошло в 00:12. Такое время показывали остановившиеся Генины часы. Полиция нашла их под обломками разрушенного алтаря. Гранаты были югославского производства, женщине было сорок девять лет, она была разведенная, и эту кирху она выбрала совершенно случайно. С 1989 года, когда, бросившись под поезд, покончил с собой ее сын, она лечилась у психиатра. Таков был официальный комментарий, опубликованный во всех немецких газетах. Кроме Гени и самоубийцы в кирхе погибла еще одна женщина. Тринадцать человек, в том числе двенадцатилетний ребенок второй погибшей женщины, были ранены, семеро тяжело. Но все выжили.
Фрагменты тела Гени, которые Петр должен был в последующие дни поочередно опознавать, через две недели были выданы немецкой полицией и кремированы. «За государственный счет, поскольку семья погибшей не может представить страховой полис, и существовало предположение, что стоимость похорон останков превысит стоимость кремации». Очень по-немецки…
Урну с прахом Петр привез в Новый Сонч, и семнадцатого января 1997 года, после того как были улажены все формальности с ксендзом Ямрожим, в Бичицах прошли похороны Генрики. Ее родители исполнили просьбу Петра похоронить ее там, где живут он и Шимон, а не в Щецине. После похорон автобус привез всех прямо с кладбища к дому Петра в Новом Сонче. Марцин получил на этот день, правда после личного вмешательства бурмистра, в органах социальной опеки специальный автомобиль для перевозки матери в инвалидной коляске. Сперва на кладбище, а потом к Петру домой.
После этого происшествия во Франкфурте Петр сидел на сильных психотропных таблетках. Все заботы по организации похорон и поминок взяли на себя Шимон и Агата с Хорстом. По горячей просьбе мамы Блажей делал все, чтобы Петр в тот вечер не пил водки. Тем не менее каким-то образом Петр с каждым часом пьянел все сильнее. А потом сцепился с Блажеем, ударил брата по лицу и оттолкнул Шимона, который пытался его удержать. Он дернул скатерть, сбросив все на пол; при этом некоторые гости обожглись горячим чаем.
– Убирайтесь все отсюда! Вон из моего дома! Чтоб духу тут вашего не было! – кричал он, раскачиваясь над столом. – Вы все ее ненавидели! С самого первого дня! Она была не такая, как вы, и хотела жить по-человечески, а не так, как вы в этой вонючей дыре! Пошли вон! Вы сделали из нее гестаповку. Это от вас она хотела убежать! Убирайтесь… – прошептал он скорее себе, чем гостям.
Петр оперся руками на стол, опустил голову и громко зарыдал. Хорст усадил его на стул. Агата собирала с пола битую посуду, освобождая место для каталки матери. Секеркова подошла к матери, взяла за руку и стала успокаивать:
– Это он от горя, Цецилия. Петрек добрый. Но от горя человек лишается разума. И тогда нужно все прощать…
Все торопливо покинули дом Петра. Даже если они понимали его, думали, как Секеркова, и тоже – через день, через месяц или только через год – простили, никто все равно не забыл, что их честь была задета. Гураля можно только раз выгнать из дома. Больше он в этот дом ни ногой.
Марцин позвонил Петру через неделю. Он не ожидал извинений. Просто хотел сообщить, что они с братьями собрали денег на надгробие Генрики.
– Пошли вы со своими деньгами! – заорал пьяный Петр. – Ни она, ни я не хотим от вас милостыни! Ни гроша! Слышал? Не хотим! – И он бросил трубку.
Их отношения разорвались. Через некоторое время Петр снова стал навещать мать, но с братом не сблизился. Между ними стояла стена холода и отчуждения.
Марцин вообще-то интересовался жизнью Петра, спрашивал у Шимона, как дела у отца, но задавать вопросы ему самому как-то не решался. Он знал, что мать ждет, хочет, чтобы все было как прежде, но откладывал примирение на неопределенное «потом». Так же вели себя и другие братья. Когда они навещали мать, интересовались у нее, как Петр, но, хотя проезжали через Новый Сонч, никто не решался завернуть к Петру.
И только старая Секеркова пришла к нему после похорон Генрики. В Рождество, ровно через год после взрыва в Зиндлингене и гибели Генрики. Она испекла маковник и автобусом поехала в Новый Сонч. Дверь открыла Агата.
– Петр, к тебе какая-то пани! – удивленная, крикнула она Петру, который сидел в комнате с Хорстом.
– Я тебе, Петрек, маковник спекла. На Рождество Младенца нужно есть много мака. – Не дожидаясь приглашения, Секеркова вошла в комнату.
Петр вскочил и принял у нее пальто. Секеркова села за стол рядом с Шимоном. Перекрестила тарелку с облаткой и, повернувшись к удивленному Хорсту, сказала;
– Ich heisse 21 Секеркова. Старая Секеркова.
Марцин тоже считал, что нужно забыть о «гордости гураля». Истинная гуральская гордость – это то, что сделала Секеркова. Он не знал гураля старше ее.
– Шимона нет дома, – холодно приветствовал Марцина удивленный его визитом Петр.
– А я не к Шимону. Я подумал, что давно мы с тобой не беседовали за бутылочкой коньяку, – сказал Марцин и обнял брата.
Утром в понедельник Марцин вставал в спешке. Когда он выехал со двора и остановился, чтобы выйти и, как обычно, закрыть ворота, диктор радиостанции объявил Мейси Грей. И он не стая выходить. Он тронулся, поставив регулятор громкости на максимум. Через несколько минут он уже подъезжал к Новому Сончу.
Решение пришло внезапно. И Марцин без колебаний подчинился ему. Как будто он уже давно знал, что когда-то оно придет и это будет замечательно. Он миновал дорожный указатель на развилке. Налево к Тарнову, прямо в Сонч. Через пятьдесят метров после развилки он резко затормозил, проверил в зеркальце заднего вида, нет ли позади машин. Отыскав обочину пошире, развернулся и через минуту уже выехал на дорогу к Тарнову. Ощупью отыскал в сумке мобильник. Набрал номер хранительницы. Выключил радио и внутренне собрался, чтобы не выдать, как он нервничает.