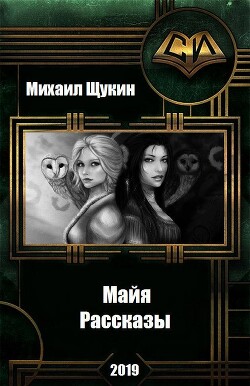Санитарная рубка - Щукин Михаил Николаевич
Но и туда, до самого дна, достигал не умолкающий тонкий плач и через какое-то время он поднял Богатырева вверх. На этот раз, открыв глаза, увидел над собой качающийся вогнутый потолок, одолевая боль, повернул голову и догадался, что это вагон без всяких перегородок, набитый ящиками, узлами, какими-то пакетами и на всех этих ящиках, узлах, на полу и возле стен сидели, лежали люди. Их было много. «Откуда они?»
Ветхая старуха копалась в картонной коробке, доставала из нее цветные тряпки, близко подносила к лицу и откладывала в сторону, доставала новые, опять разглядывала и никак не могла найти нужные. Повергшись спиной к старухе, беспрестанно покачивалась, баюкая забинтованную руку, совсем еще молодая девушка, и дико было видеть ее милое курносое лицо, пышные русые волосы и замусоленный, обремкавшийся бинт с засохшим на нем кровяным пятном.
Напротив, привалившись к вздрагивающей стене вагона, спала женщина. Растрепанные волосы закрывали ее лицо, голова безвольно моталась из стороны в сторону, но и во сне женщина не размыкала рук, а на руках у нее, завернутый в солдатское одеяло, заходился в плаче крохотный ребенок. Кричал, не переставая, словно хотел поднять, вскинуть всех, кто находился в вагоне, но не мог докричаться даже до матери, подкошенной смертельной усталостью. В проеме расстегнутой кофты белела грудь с обсохшим коричневым соском, от которого сразу же начинался и тянулся вверх лиловый синяк.
— Товарищ капитан, ожил, ё-моё! — Улыбаясь и морща от восторга веснушчатый лоб, над ним наклонился Кузин. Богатырев едва разлепил ссохшиеся губы:
— Пить…
— Щас, товарищ капитан, щас, и пить и есть достанем. — В голосе Кузина слышалось прямо-таки ликование.
Он вскочил, отошел в сторону и скоро вернулся с кружкой. Ловко приподнял голову Богатырева и долго поил его, разливая воду на подбородок и на грудь. Напившись, Богатырев почуял, что к нему вернулся голос:
— Где мы, Кузин? Меня здорово зацепило?
— Крепко, товарищ капитан, но не смертельно. Одна меж ребер прошла, легкие не задело, а вторая в плечо.
Тут врачиха оказалась, раны обработала, сказала, что до госпиталя вы дотянете. А где мы? Да хрен его знает! Окон же тут нету.
— Что за вагон?
— Да тут не вагон, товарищ капитан, а целый состав телячьих вагонов. У нас еще ничего, а в соседнем, в нем раньше цемент возили, там все, как в муке, сидят. И везде беженцы.
— Иваницкий живой?
— Живой. Еле-еле мы оттуда выцарапались. Как вас зацепило, падла какая-то из окна шарахнула, он кругаля дал и две гранаты им в окно. Вся сараюшка развалилась. А дальше — совсем весело. Только «икарусы» через блоки провели, только поехали по трассе, смотрим, машина за нами увязалась, потом еще одна, третья, близко не подходят, а так, тянутся следом. Ясно, что подмоги ждут. Тогда пришлось с трассы съехать, сколько смогли протащились по проселку, а дальше ходу нет, одни колдобины, зато смотрим — машины отстали, видно, побоялись. «Икарусы» бросить пришлось и своим ходом до станции добирались, а там этот состав. Теперь вот едем… Домой едем…
— А полк как? Дурыгин?
— Про это не скажу, товарищ капитан, не знаю. Да, главное чуть не забыл, Иваницкий мне планшетку передал, беречь велел, как свои яйца. Так и сказал. Она при мне. И еще сказал, что в Ростове нас встретят и в госпиталь доставят. Я как будто сопровождающий. Доставлю вас до госпиталя и в комендатуру пойду, где до дембеля буду дослуживать — хрен его знает! Товарищ капитан, как же так случилось?
— Ты о чем?
— Да позор-то… Чурки на пинках выкинули. Такая громада с оружием, а выкинули. Как получилось — ни бельмеса не понимаю… Тоска у меня, товарищ капитан, тоска голимая…
Богатырев ничего не ответил. Да и что он мог сказать? Отвернулся от Кузина и закрыл глаза.
Внезапно успокоился, перестал плакать ребенок… И хотя он еще продолжал обиженно всхлипывать, но в этих всхлипах была уже какая-то умиротворенность. Измученные люди тоже начинали засыпать, но и во сне их не отпускали недавние переживания — то стон слышался, то испуганный вскрик.
А состав громыхал, рвался через враждебное пространство, напрягая все свои железные силы — в Россию. Туда, где его пассажиров никто не ждал.
31
Ночь перевалила на вторую половину, а Богатырев все не мог уснуть, в конце концов, потеряв всякую надежду задремать, поднялся с лавки и босиком, стараясь никого не разбудить, выбрался на крыльцо.
Спустился со ступенек прямо в росную траву, вздрогнул, передернул плечами, ощутив босыми ногами холод, и долго стоял, подняв голову, вглядываясь в светлеющее на востоке небо, на фоне которого яснее, четче начинали проступать макушки сосен.
«Как там в песне пелось? Зачеркнуть бы всю жизнь да с начала начать… А как ее зачеркнешь, если она уже прожита? И хреново прожита, если ее зачеркнуть хочется. Теперь не переделаешь… Теперь только локти кусать, да не дотянуться! — Он вернулся к крыльцу, на верхнюю ступеньку и по-стариковски сгорбился, безвольно опустив руки. — Солдат вечного поражения…»
Задумавшись, так и задремал, на ступеньке, прислонившись головой к перилам, крепко задремал, даже короткий и странный сон успел увидеть: идет он по Сибирску, а направо и налево от него — торговые ряды, тянутся беспрерывно, даже без малого зазора, и нет им ни конца, ни края; он идет-идет, а свернуть никуда не может, только сделает шаг в сторону, как сразу же натыкается на эти ряды, на которых горами навалено всяческое барахло, а за ними, за рядами, нет ни единого продавца — пусто, как метлой вымели; бери, чего желаешь, если барахло без догляда лежит, но оно ему было без надобности, и досадовал Богатырев лишь потому, что никак не может выбраться… Так и проснулся с этой досадой, когда чутко услышал скрип двери. Вскинулся и увидел, что на крыльцо осторожно, стараясь не шуметь, выбирается Малыш, но доски, словно отзываясь на дверной скрип, предательски сразу же обозначились под его тяжелым телом и «заговорили», каждая на свой лад. Малыш расстроенно мотнул головой, будто надоедливую муху отгонял, и спрыгнул с верхней ступеньки на землю. Потянулся с хрустом, раскинув ручищи, и спросил:
— Ты чего здесь кемаришь?
— Уснуть никак не мог, ворочался, ворочался… А тут присел, и сон приснился, фигня какая-то…
— Бывает… Ладно, ты пока наслаждайся природой, а я пойду потружусь малехо.
Оставляя за собой темный след на росной траве, Малыш дошел до сарайки, широко распахнул дверь и скоро вышел с тяпкой, которая казалась в его ручищах игрушечной и невесомой.
— Ты куда? На огород, что ли? — спросил Богатырев.
— Не, огорода у меня нету, так, для смеха, грядку луку посадил, чтобы закусывать, — весело отозвался Малыш. — У меня тут другое… Для души.
Вскинул тяпку на плечо и заторопился к ближним соснам. Богатырев не удержался и двинулся за ним следом, прочерчивая босыми ногами на траве еще один темный след. Любопытно стало — чего этот здоровенный мужичина полоть собрался?
Миновали ближние сосны и сразу же за ними уперлись в горельник. Черные обугленные деревья влажно поблескивали под солнцем, иные клонились в разные стороны, видно, корни еще держали, а там, где уже не держали, стволы валялись вразброс по земле и несмелая, робкая травка лишь в редких местах чуть оживляла мертвую черноту пожарища.
— Я уж боялся, когда заполыхало, что жилье мое спалит, но ничего, обошлось. — Малыш круто свернул в сторону, поднимаясь на неприметный взгорок и, оглянувшись, предложил: — Может, вернешься, обуешься…
— Нет, я осторожно, потихоньку. Далеко еще идти?
— Да уж пришли. Вот поднимемся…
Малыш зашел на взгорок и остановился. Опустил тяпку, оперся на черенок одной рукой, другую горделиво вскинул и показал указательным пальцем:
— Вот, видишь, какой у меня огород.
На взгорке, расчищенном от горелых деревьев, ровными рядками тянулись сосенки, они казались почти крохотными, но зеленели ярко, видно было, что прижились после посадки. И так они радовали глаз своей яркостью, особенно на фоне горельника, что хотелось их непременно погладить рукой, что Малыш и сделал, присев перед ближними сосенками и растопырив свои ручищи. Гладил макушки, как гладят детей по головкам, и глаза его сияли так, что маскировали своим светом изуродованное лицо, которое казалось теперь совсем иным.