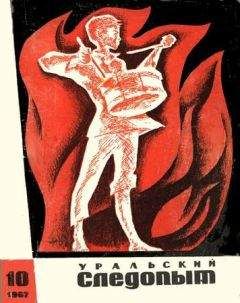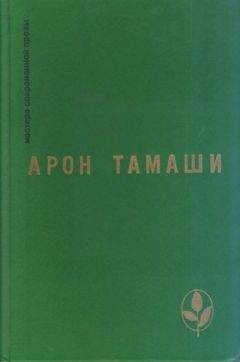Габриэль Гарсиа Маркес - Сто лет одиночества
Фернанда привезла с собой роскошный календарь с золотыми числами, где ее духовник отметил фиолетовыми чернилами дни полового воздержания. За вычетом Страстной недели, воскресений, постов, первых пятниц, других молитвенных дней и светлых праздников, включая также регулярные месячные помехи, ее полезная супружеская жизнь сводилась в году к сорока двум дням, которые едва проглядывали сквозь густое плетение фиолетовых крестов. Аурелиано Второй, убежденный в том, что жизнь со временем снесет этот злосчастный лиловый плетень, праздновал свою свадьбу гораздо дольше обычного срока. Из последних сил кидая в короб мусорщика пустые бутылки от бренди и шампанского, грозившие завалить дом, ломая голову над тем, почему молодожены спят в разных комнатах и в разное время и почему петарды и музыка продолжают греметь, а говяжьи туши не перестают превращаться в жаркое, Урсула вдруг вспомнила о собственной свадьбе и спросила Фернанду, не надевает ли она пояс целомудрия, что рано или поздно вызовет смех у чужих людей и приведет к домашней трагедии. Но Фернанда призналась, что просто должны истечь две недели до того, как она сможет позволить себе отдаться мужу. По прошествии установленного срока она действительно открыла дверь в свою спальню с покорным видом мученицы, готовой к искупительному жертвоприношению, и Аурелиано Второй увидел самую красивую на свете женщину с чудесными глазами испуганной лани и с длинными волосами цвета меди, разметавшимися по подушке. Восхищенный этой картиной, он не сразу заметил, что Фернанда облачилась в белую, длинную до щиколоток рубашку с рукавами до ногтей и с большой, круглой, искусно обшитой прорехой на животе. Аурелиано Второй взорвался громким хохотом.
— Это самая аппетитная клубничка, какую я только видел! — вскричал он, заливаясь смехом на весь дом. — Я женился на монашенке!
Спустя месяц, так и не добившись, чтобы супруга рассталась с белым балахоном, он отправился фотографировать Петру Котес в одеждах королевы. Еще позже, когда ему удалось вернуть Фернанду домой, жена в пылу примирения уступила его домогательствам, но не сумела наградить блаженством, о котором он мечтал, когда отправлялся за ней в город с тридцатью двумя колокольнями. Аурелиано Второй не нашел в ней ничего, кроме чувства глубокой скорби. Как-то ночью, незадолго до рождения первенца, Фернанда поняла, что муж втайне от нее снова разделяет ложе с Петрой Котес.
— Да, это так, — признался он. И объяснил с унылым смирением: — Ничего не поделать. Скотина ведь должна плодиться.
Ей понадобилось некоторое время, чтобы поверить такому странному объяснению, но когда она наконец поверила, казалось бы, неопровержимым фактам, единственное, что жена потребовала от мужа, было обещание не умирать в постели своей любовницы. Так они и жили втроем, не тревожа друг друга: Аурелиано Второй был исправен и нежен с обеими, Петра Котес открыто кичилась тем, что вернула его, а Фернанда делала вид, что ей это невдомек.
Однако молчаливый договор с мужем не облегчал Фернанде жизнь в семье. Урсула настаивала, хотя и безуспешно, на том, чтобы она не надевала утром шерстяной воротничок после ночи, проведенной с мужем, над чем посмеивались соседи. Не могла она убедить молодую жену и пользоваться купальней или уборной и продать золотой горшок полковнику Аурелиано Буэндии для изготовления рыбок. Амаранта раздражалась жеманным выговором Фернанды и ее привычкой не называть некоторые вещи своими именами и донимала ее издевательской тарабарщиной.
— Онафа изфе техфо, — говорила при ней Амаранта, — кофого тошнифит отфо собствефоннофо говфана.
Однажды, обозленная насмешками, Фернанда захотела понять, о чем болтает Амаранта, и та, отвечая ей, не стала прибегать к эвфемизмам.
— Я говорю, — сказала она, — что ты соблюдаешь посты не для духа, а для брюха.
С этого дня они перестали разговаривать. При необходимости посылали друг другу записки или прибегали к помощи посредников. Несмотря на ощутимую враждебность семьи, Фернанда не отказалась от намерения внедрить здесь обычаи своих прадедов. Она положила конец привычке обедать на кухне и заставила всех собираться в строго определенный час в столовой за большим столом, накрытым льняной скатертью, и есть из серебряных тарелок при свете канделябров. Торжественность дневной трапезы, которую Урсула всегда считала самым незначительным актом повседневности, рождала напряженность, против которой взбунтовался даже молчаливый Хосе Аркадио Второй. Однако обычай привился так же, как ежевечерняя молитва перед ужином, возбуждавшая такое любопытство соседей, что скоро прошел слух, будто члены семьи Буэндия не садятся за стол, подобно простым смертным, а превращают прием пищи в священнодействие. Даже суеверия Урсулы, рожденные скорее игрой воображения, чем традицией, вступили в противоречие с теми, что Фернанда унаследовала от родителей, — приметами строго определенными, имеющимися на все случаи жизни. Пока Урсула могла давать себе волю, в доме продолжали сохраняться старые обычаи, а жизнь семьи еще кое в чем подчинялась ее скорым решениям, но когда она потеряла зрение, а бремя лет загнало ее в угол, железный обруч, которым стала сжимать семью Фернанда со дня своего появления в доме, сомкнулся, и отныне уже только она одна заправляла судьбами всех. Торговлю булочками и леденцовыми зверушками, которой занималась Санта София де ла Пьедад по желанию Урсулы, Фернанда сочла занятием малопристойным и не замедлила с ним покончить. Двери дома, гостеприимно распахнутые с рассвета до позднего вечера, сначала стали запирать в сьесту под тем предлогом, что в спальнях делается жарко, и в конце концов их закрыли без лишних слов. Можжевеловая ветвь и коврига хлеба, находившие себе место под притолокой со времен основания Макондо, были заменены Сердцем Иисуса в нише. Полковник Аурелиано Буэндия заметил эти перемены и предсказал последствия. «Мы становимся аристократами, — ворчал он. — Если так пойдет дальше, мы опять накинемся на консерваторов, а разгромив их, посадим короля на трон». Фернанда очень умело избегала всяких столкновений с ним. Но терпеть не могла его независимого нрава и его противления раз и навсегда установленным правилам жизни. Ее раздражали и его кофепитие в пять утра, и беспорядок в мастерской, и потрепанный плащ, и привычка сидеть под вечер у двери на улицу. Ей приходилось терпеть эти неполадки в семейном механизме, поскольку она была уверена, что старый полковник был неким зверем, усмиренным прожитыми годами и обманутыми надеждами, но способным в порыве старческого исступления потрясти основы родного очага. Когда ее муж решил дать первому сыну имя прадеда, Фернанда не осмелилась возражать, так как жила тут всего год. Но когда родилась первая дочь, она без обиняков заявила что назовет девочку Ренатой в честь своей матери. Урсула же решила, что девочку будут звать Ремедиос. В конце концов упорное противостояние прекратилось с помощью Аурелиано Второго, которого немало позабавил этот спор, и девочку нарекли Ренатой Ремедиос, но Фернанда упорно называла ее Рената а семья мужа и все в городе звали ее Меме — сокращенно от Ремедиос.