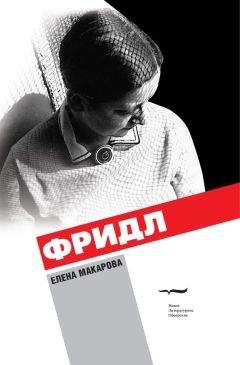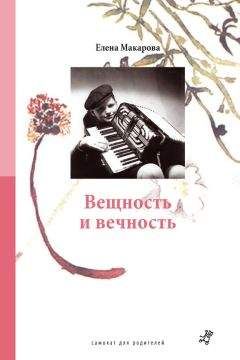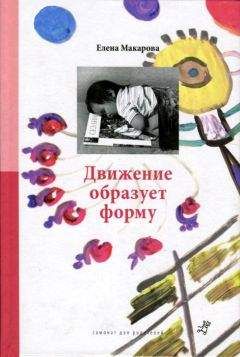Елена Макарова - Вечный сдвиг. Повести и рассказы
Ничья.
Развеселились оба. Укладывают дам в лифчиках и шароварах в коробку из-под пылесоса, а чопорных и декольтированных – в коробку из-под печенья «Праздничное». Джокера, даму сердца Моисея Фрицевича, по долгом размышлении, устраивают на ночлег отдельно.
А что если, думает Яков Петрович, а что если… прекратить экономить да пригласить Симу в кафе…
А что если, думает Моисей Фрицевич, взять вот прямо сейчас и выйти к морю…
Пароходик подмигивает, цикады поют, море молчит.
Все хорошо, только слезы мешают.
Яков Петрович выходит из ванной. В дрожащей руке – кружка с зубными протезами.
– Яков, известно ли тебе, что слеза, искренняя, от счастья, способна проломить крышу?
Яков кивает, берет со стола коробку из-под печенья «Праздничное» и скорей в свою комнату. Пока милость Фрицевича не сменилась на гнев.
Моисей Фрицевич лежит у открытого окна и думает о греке, осевшем на старости лет в Иерусалиме. А его ночлежка – в Ашкелоне, тоже святая земля. Рядом с ним, в коробке из-под пылесоса, спят дейнековские девы в белых лифчиках и черных шароварах…
Постанывает море. Или Яков Петрович?
На каком языке он думает?
Постепенно расчищаются вавилоны и авгиевы конюшни.
Моисей Фрицевич дотягивается рукой до стола, нащупывает фотографию дамы сердца, кладет ее на подушку и гасит свет. Чуть приподнявшись, он смотрит в темное окно. Много воды. Моря он не заказывал. Значит, минус триста. И дама, на которой лежит его неподвижная ладонь, вне игры. Мизер.
На рассвете набегают волны, приносят с собой ветер.
Скрипит ставня, храпит Яков Петрович.
В оконных рамах, как в люльке, раскачивается отражение Моисея Фрицевича.
На линии огня
Сижу я как-то на автобусной остановке, жду автобус 22. Автобуса нет и нет, зато подходит ко мне нужный человек, Шломо Стернфельд. Директор израильского киноцентра. Вот у кого есть деньги на фильм!
Когда-то, лет десять тому назад, мы ходили к Шломо с поэтом Барсуковым. Хотели продать готовый сценарий. Не вчитываясь, Шломо насчитал три миллиона. По самым низким расценкам и при условии, что мы выкинем половину героев и съемочных дней. Если не выкинем – шесть миллионов, а то и больше. Мы с Барсуковым онемели. Вернее, онемела я, Барсуков же, гений за чертой бедности, в уме зарабатывал миллиарды. Русский поэт без гроша в кармане, прибыл в Израиль в разгар войны с Саддамом Хусейном. Зачем? А чтобы оказать моральную поддержку некой поэтессе, с которой он состоял в переписке. Израиль – благодатная почва для тех, кто склонен к героическим поступкам. Однако романтика войны с сиренами, противогазами и поэтессами ему быстро наскучила, и он решил искать поприще. И нашел. Я рассказала ему историю художницы Фридл, погибшей в Освенциме. Мы получим Оскара! – воскликнул Барсуков. Он переехал к нам. Мы писали вдохновенно. Это – фильм для Голливуда, говорил Барсуков. Поверив Барсукову на слово, Шломо заказал перевод на английский. Он добился того, что орган культурной абсорбции репатриантов заплатил моему мужу за перевод. Полистав рукопись на английском, Шломо сказал: «Это европейско-американский фильм, Израиль сможет войти в кооперацию, но на более поздней стадии». Мы послали сценарий Шварценеггеру и Барбаре Стрейзанд. Барсуков прочил ее на роль главной геронии. Не знаю, кого должен был играть Шварценеггер. Ответа мы не получили. Барсуков вернулся в Москву. И вот уже десять лет собирается в Голливуд, – на месте будет проще пристроить наш сценарий.
Все это быстро промелькнуло в памяти. Неизвестно, о чем думал Шломо в минуту моей задумчивости.
Он меня не узнал. Во-первых, без Барсукова. Во-вторых, прошло десять лет, в-третьих, мне только что выдрали зуб, и отходила заморозка. Я представилась. Шломо моргал, морщил лоб, – где он меня видел? А, вспомнил, сценарий про какую-то художницу… Фридл, – подсказала я ему и расхвасталась. Выставка путешествует по миру, каталоги на четырех языках… В Израиле хвастовство – не порок. Так что родину я выбрала правильно. Шломо поздравил меня с успехом. Пора переходить к делу. Мне нужна Шломина помощь. Нет проблем. Если он хоть чем-нибудь может быть полезен… Я рассказала ему про Бедю, девяностопятилетнего художника. Разумеется, гениального. Шломо скис. История про старого, никому не известного художника, кто даст на это деньги! Тем более сегодня, когда все бюджеты срезаются.
Автобус 22 ходит с большими интервалами. Сюжет Бединой жизни разворачивался и длился на остановке.
Дорогой беседа потеряла направление. Прозвучало имя Масарика. Бедя и президент Чехословакии Масарик родились в городе Ходонине. Козырнув примечательным фактом, я сбила Шломо с магистральной линии. Масарик, это тот, кого убили в 1934 году. Нет, Масарик умер своей смертью. Это его сына, Яна, гэбэшники выкинули из окна. Шломо сказал, что у Масарика не было сына. Ну, это уж слишком!
Народу на улицах Иерусалима мало, пробок нет, ехали мы быстро.
Если ты права, я приглашу тебя на чашечку кофе, – сказал Шломо и вышел из автобуса.
Вскоре он позвонил, признался в том, что спутал Масарика с Шушнигом, и предложил встретиться. В восемь вечера, на улице Шая Агнона, 8. Первый этаж, нажать на кнопку «Бар Шай». Бар Шай? Да, так зовут хозяина дома, который будет читать лекцию на тему Четвертой симфонии Чайковского. Он читает раз в месяц, на дому.
* * *Окно во всю стену смотрело в ночной Иерусалим, залитый огнями. В центре гостиной, на низком журнальном столике, лежали книги про Чайковского и сухофрукты. Разряженные, припомаженные и припудренные европейские старики и старушки рассаживались по периметру. Судя по хохмам и репликам, они хорошо знали друг друга.
Старик Бар Шай, грузный, в запятнанной одежде, сидел рядом со стереосистемой. Мы со Шломо – на почетном месте, подле хозяина. Пока гости собирались, один из присутствующих, уловив ухом гул вертолета (то есть уловили все, но он был самым тревожным), попросил на секунду включить телевизор. Включили, что ввело Бар Шая в тихий, но вполне очевидный гнев, – к лекции о Чайковском вертолеты никакого отношения не имеют. Выключили телевизор. За окном бухнуло. Стреляли в Гило.
Бар Шай начал повествование. О предшественниках Чайковского, о Глинке, в общем, все очень интересно, популярно и, как говорят, «им пильпель» (с перцем). Пильпелем особо была присыпана личная жизнь композитора, которому Бар Шай чисто по-человечески сочувствовал, однако, не будь Чайковский гомиком, что в его времена было «меод каше вэ-йотэр мэсукан» (очень тяжело и еще более опасно), не родилась бы Четвертая симфония. Доктор послал Чайковского, пребывавшего в депрессии, в Италию, и там он написал эту симфонию и оперу «Евгений Онегин».
Неподвижность лектора имела причину – его разбил инсульт, и единственное, что осталось в сохранности, это память и интеллект. Шломо сказал (провожая меня после лекции до угла), что Бар Шай выиграл международный конкурс знатоков музыки, что он помнит наизусть все имена Сибелиуса, кроме первого, Ян, и знает все те части и мелкие частички мелодий, которые Хачатурян покрал у Малера.
Прибывающие с запозданием гости не мешали докладчику. Мешал гул вертолетов. Бар Шай велел закрыть окна. Закрыли. Дамы принялись обмахиваться проспектами с концертов Чайковского (у Бар Шая была огромная коллекция всего, что связано с музыкальными событиями), но гул вертолетов отвлекал и при закрытых окнах.
Сделали перерыв. С пирогами и кофе. Я так и не поняла, есть ли у Бар Шая жена и есть ли деньги у директора киноцентра. Так почему бы не спросить прямо? Возраст у Шломо пенсионный, беседует со стариками о шахматах, ни слова о кино. Какие деньги! – воскликнул Шломо. – Все на оборону, я директор без средств. Но мы попытаемся выйти на тех, у кого они есть. То есть снова к Шварценеггеру и Барбаре Стрейзанд?
Вторая часть программы состояла из прослушивания симфонии. Вылавливались мотивы и темы, партии отдельных инструментов.
Прибавляя громкость по просьбе глуховатых гостей, Бар Шай не рассчитал, и «система» ухнула взрывом. Хорошо, что не ХАМАС, – сказал старичок в кипе, сидевший рядом со мной.
Симан ло тов (дурной знак), – вставила дама в черном, воспользовавшись паузой.
Бар Шай не отвлекался. Вальс аллегро. Трагизм первой части, где, как вы слышали, были отмечены главные темы душевного беспокойства…
Все как по команде повернули головы – за окном снова грохнуло.
Вследствие инсульта движения Бар Шая были заторможенными, в нем двигался лишь ум, отвлеченный от всяких побочных движений. И посему он продолжил:
– Вы услышите сейчас, – мы находимся в финале последней части, – как гений Чайковского разрешает симфонию. Слышите, вступают тромбоны, возвращая нас к изначальному мотиву, но в иной тональности, из тьмы сомнений к свету прозрения…
Раздались аплодисменты, – мы слушали не студийную запись, а живую, из венской консерватории. С нашей стороны последовали хлипкие хлопки.