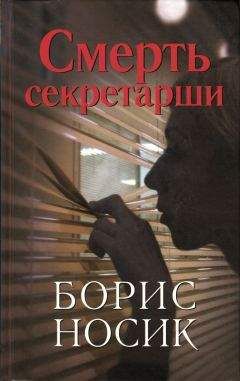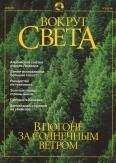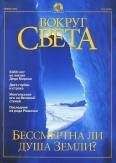Борис Носик - Смерть секретарши (повести)
Дальше поэт с умилением объяснял, что это военная цензура слегка помарала тушью его солдатское письмо для его же, конечно, петуховской пользы, чтобы он, дурашка, не болтал лишнего. То есть перо цензора в ту тяжкую пору разило врага не хуже, чем боевая винтовка, а может, как знать, — лучше, надежнее. Вот здесь Евгеньева и осенила счастливая (хотя и бесполезная — точная аналогия с решением кроссвордов) догадка: это он, Петухов, и был цензором, потому что ведь не стал бы солдатик, даже и давно разжиревший, с таким восторгом разглядывать собственное кем-то измаранное письмо да еще сравнивать эту обидно недоступную сейчас для прочтения юношескую строчку со щелью амбразуры… Нет, что ни говори, товарищ Петухов был все-таки прирожденный поэт — даже нагромоздив такие кучи вранья по вполне коммерческому шаблону, он не мог не сказать о себе правды. Да, конечно, он был плохой поэт, но это уже была не вина его, а беда. Может, он был при этом хороший идеологический начальник или добрый семьянин.
Долистав петуховскую пачку почти до конца, Евгеньев наткнулся на записку, адресованную Колебакину, и прочел ее без всяких угрызений совести: «П. Е., здесь начинается новая линия моего творчества. Я пишу теперь исторические стихи, которые… и так далее». Так и было написано «так далее», потому что лишнего времени на выполнение колебакинской работы у Петухова не было: объяснять — дело Колебакина. Стишата были так себе. В раздольной русской степи колышутся травы; иногда попадается ржавая железка или еще какая-нибудь дрянь, из чего поэт делает вывод, что давно «сгинули нерусские толпы», «отринула их русская земля», пожгла всех до единого, так что ныне «эти толпы с каганами и своими кагалами погребены» под сенью русского ковыля. Порывшись в памяти, обозреватель вспомнил, что неразумные хазары и их еще более неразумные каганы исповедовали не безобидное мусульманство, а самый настоящий иудаизм, что придавало историческому стиху непредвиденную остроту. Именно слово «кагал» все ставило на место: это было одно из любимых словечек Валевского (наряду со словами «гвалт», «гешефт» и «хохма»), оно придавало определенную окраску предмету описания (будь то театр модерна, книжная толкучка или замученный в лагере литератор), внутренне сближая его, этот предмет, с напрасно охаянной чертой оседлости, с пресловутыми гениями двадцатых годов и с мировым еврейским капиталом, злейшим врагом всех времен и народов. Это все были знакомые игры, и обозреватель подумал, что Колебакин будет в восторге от стихов Петухова (впрочем, с чего б это ему не прийти в восторг от стихов столь высокого начальства).
* * *Обозреватель Евгеньев не обманулся. Колебакин был искренне рад получить стихи Петухова и пришел в волнение, прочитав их, потому что Колебакина по-настоящему волновали судьбы родной литературы. Сам он писал так тяжело и неудобочитаемо, что самая мысль о возможности какой-то там развлекательной функции литературы и журналистики казалась ему унизительной. В живости письма он видел происки Запада и мирового еврейства (это они строчат легко и легковесно, воистину жидконого, тысячу раз прав был поэт). Литература представлялась Колебакину кровавым полем сражения, где сам он, подобно великану, ворочает тяжеловесные глыбы фраз, пытаясь придавить ими литературного врага, который и есть одновременно враг всего правильного и народного. Это святое служение правде Колебакин принес в журнал, и видно было, что мысль о том, чтобы написать легковесно (или хотя бы легко) о чем угодно, даже об Алле Пугачевой, клоуне Попове или вокально-инструментальном ансамбле «Голубые ребята», представлялась ему кощунственной. Сам Колебакин сочинял свои опусы в тяжкой муке, поливая страницы потом, с трудом сводя концы с концами в умученной и мучительной полурусской фразе. Тем не менее оставить что-нибудь в номере нетронутым, не переписанным собственноручно он соглашался лишь изредка, по недостатку сил или времени.
Может быть, именно тот факт, что презренное, жидконогое племя обладало необыкновенной, греховной легкостью письма, и породил в свое время тяжкую ненависть Колебакина к народцу, во множестве рождающему бессовестных киношников, болтливых спортивных комментаторов и ловких журналистов. Да, и еще, конечно, театральных режиссеров, заносчивых извращенцев, которые только и мечтают взять что-нибудь святое — Толстого, Гоголя, Островского или Чехова — и замарать, извратить. Испохабить своими мейерхольдовскими штучками, своими трюками, опереточными хохмами, — всех этих Мейерхольдов, Плучеков, Эфросов и прочих и прочих. О, они были великие мастера делать себе рекламу, поднимать шум по поводу каждого своего кунстштюка. Даже из несчастий, из великого народного бедствия, каким была война, из собственной смерти, наконец, они умели извлечь посмертную выгоду — как, скажем, этот паяц Мейерхольд или жалкий извращенец Мандельштам, которого в редакционном кругу давно уже принято было называть Манделем. Литература в представлении Колебакина была узкой и крутой лестницей славы, на которой жидконогие всю жизнь теснили его, прижимая к перилам, обгоняя без зазрения совести. Не обремененные тяжким грузом истинного слова, они прыгали вверх через ступеньку, нагло шастали куда и не придумаешь. А Колебакин поднимался трудно, писал мучительно тяжко и честно. Так что ж, разве настоящее слово не должно рождаться в муках, разве литература — это не мучительные роды?
В последнее время положение, слава Богу, поправилось. Солидные люди из хороших, исконно русских областей и районов пришли к кормилу, и литературный корабль вышел наконец в глубокие воды народности. Вот тогда мнение Колебакина и стало весомым, долготерпение его получило высокую оценку. Его работы стали нарасхват среди издателей. Писал он, впрочем, по-прежнему мало, родное слово давалось ему тяжким бурлацким трудом, ускользало из пера, как неродное, всякий раз вызывая сомнения в своей достоверности, в самой своей дозволенности. Оттого, несмотря на рост жизненных успехов, ненависть Колебакина к шустрому племени не убывала, он оставался таким же честным и непримиримым бойцом.
Ему, конечно, не приходилось теперь унизительно бороться с бойкими борзописцами за место в журнальной полосе — любой орган предоставит ему теперь свои полосы. Да что там, каждая заметка его, каждая статья печаталась и дважды, и трижды, как, например, «Выстраданное слово», вошедшее в два сборника, до того напечатанное в виде предисловия, а также в журнальном варианте. Однако теперь борьба Колебакина с коммерческим племенем стала шире, глобальнее, принципиальней, тем более в настоящий, текущий, момент, когда эти жалкие людишки, долго прятавшие свой звериный лик под напомаженной внешностью жертвы, обнажили нутро сионизма.
Именно такие мысли вызвало у Колебакина чтение новой подборки стихов Олега Петухова, и Колебакин хотел немедленно поделиться этими мыслями с Валевским, который хотя и имел вкус, несколько подпорченный неумеренным чтением, однако вполне правильно понимал главные задачи момента. Оказалось, впрочем, что Валевский куда-то ушел и на местах оставались только Риточка и Евгеньев.
Риточка была умная девочка, с ней всегда можно было поговорить откровенно. Она не лезет к тебе в душу со своими журналистскими задумками и неприкрытой интимностью, как эта чумовая Лариса, но видно, что Риточка понимает твои мысли и может им сочувствовать. Прошлым летом, когда Колебакин диктовал ей свое «Образное слово», исчирканное вдоль и поперек в борьбе за большую весомость речи, — он имел возможность убедиться, сколько настоящего молчаливого понимания может проявить женщина. Ведь чужая, казалось бы, женщина, не твоя собственная жена… Ведь как раз здесь, в этом лоне человек должен получать, но не получает молчаливого понимания, и это трагедия, пришедшая к нам с Запада, с берегов Америки и Франции, где женщина давно перестала быть подругой и стала обыкновенным вампиром обогащения.
Напротив Риточкиного места, развалясь за столом в своей обычной усталой позе (Чем же он так утомлен, голубчик? Жениться надо было реже!), сидел обозреватель Евгеньев, человек хотя и достаточно исполнительный, но все же не вносящий нужной страсти в свое такое в настоящий момент выигрышное дело, как разоблачение мирового сионизма, крупного еврейского капитала, декадентского искусства Запада, масонства и ЦРУ — все одна шайка, одним миром мазаны. Когда Колебакин читал международные комментарии, ему всегда казалось, что все эти их посылки не имеют никакой логики, никакого смысла, никакой зацепки в жизни и не пробуждают в сознании читателя нужной страсти, а, наоборот, усыпляют его привычностью оборотов. С другой стороны, комментарии, которые готовил Евгеньев, всегда безболезненно проходили визирование в МИДе и не влекли за собой никаких осложнений, он сам и его авторы были безупречно аккуратными, так что вмешиваться в его работу не представлялось никакого повода. Нельзя было даже сказать, чтобы Евгеньев не любил свой предмет или не верил в правоту нашей внешней политики, — совсем наоборот. А все же страсти на главном направлении в нем, кажется, не было: это был человек дипломатии, а не человек литературы и публицистики. Конечно, он в своем роде был надежнее, чем ответственный секретарь Чухин, который, как часто подозревал Колебакин, просто примазался к движению, поскольку он оказался в их, а не в другом журнале, и вообще в прессе он временно отсиживался, поскольку ждал нового оформления, случайно не находясь в данный момент за границей. К материалам, рекомендуемым Чухиным, надо было проявлять особую осторожность, потому что в них заметна была снисходительная небрежность их авторов к делу печати…