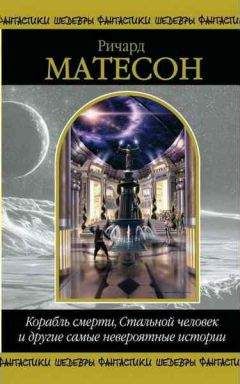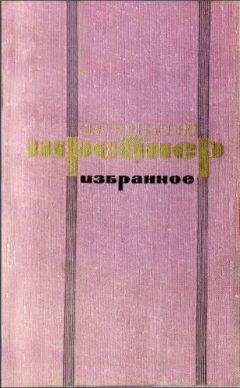Александр Кузнецов - Два пера горной индейки
Я поднимаю на нее глаза:
— Здесь не хватает кое-чего, но это не страшно. Вы оставьте мне документы, чтобы вам больше не ходить, а я сама свяжусь с организацией и все улажу.
Она начинает плакать. Как только человек увидит внимательное отношение к его горю, так сразу раскисает. Она плачет навзрыд и сквозь рыдания рассказывает мне о том, какой хороший был у нее муж, как он любил своих детей. Самый лучший был человек, не пил много, дома бывал с детьми. Дети до сих пор плачут вместе с ней.
А мой муж умирал долго, в нечеловеческих страданиях. Ему трудно было умирать потому, что он еще и не жил. Лишь детство, война, инвалидность. Он не жаловался, не стонал, не плакал, но смотреть на него было невыносимой мукой.
— Нехорошо обошлась с нами судьба, Лизонька, — сказал он только раз, незадолго до смерти. — Мне немного легче теперь оттого, что на свет появился мой сын. Он должен быть счастливым. Он не будет стыдиться своего отца...
...Женщина всхлипывала, утирала слезы уголком платка и все рассказывала мне о том, каким хорошим мужем и отцом был этот погибший человек. «У нее двое детей, — думала я, — два страха. Десять и пятнадцать лет. Сколько же еще труда надо израсходовать, чтобы вырастить их. Но, только потеряв детей, мы понимаем, какое счастье мотаться, выбиваться из сил для того, чтобы они росли, жили, радовались».
— Никто, никто не может понять чужого горя! — восклицает она и рыдает.
— Нет, почему же, — говорю я, — его можно понять. Я, например, понимаю.
Она смотрит на меня вопросительно и ожидающе.
— Представьте себе, что ваш сын станет взрослым, поступит в институт, а потом пойдет в горах на восхождение и разобьется насмерть.
Теперь она смотрит на меня испуганно. Глаза у нее быстро высыхают.
— Горе тоже познается в сравнении, как и все в этом мире, — продолжаю я, — попробуйте представить себе: вырастила сына без отца, единственного сына, и вот на тебе... Даже могилы не осталось.
Теперь в глазах у нее страх, страх за своих детей. Глядя на меня, она сразу почувствовала себя богатой. Я чучело, я пугало. Стоит только показать меня человеку, не до конца, хоть одной моей болью, как он сразу понимает: положение его не так уж и безнадежно.
Да. Старое, безобразное пугало с дырявым ведром на голове. Любому человеку, всякому, кто бы он ни был, я могу теперь говорить правду в глаза, говорить все, что думаю. Дорого стоит такое право, ох как дорого! Дороже жизни.
— Простите, я не знала... я расстроила вас, извините меня, я совсем уже ничего не соображаю из-за своего горя, — говорила женщина.
— Пустяки. Я хочу вам только сказать, что ваша жизнь не кончилась. У вас есть дети. Сделайте из них хороших людей. Вам есть для чего жить.
Он вошел без стука и радостно протянул мне руку, как старой знакомой, как закадычному другу, которого давно не видел:
— Здравствуйте, товарищ Росо!
Был он в заграничном дубленом полушубке, а левой рукой прижимал к себе пыжиковую шапку. Деревенское широкоскулое лицо, белесые глаза с хитринкой, лысеющая светловолосая голова. Не очень-то верилось, что у него действительно душа нараспашку, он слегка переигрывал в рубаху-парня. Однако напора этому человеку не занимать. Такие добиваются многого, и в первую очередь — квартиры в Москве. «Интересно, — подумала я, — неужели он не понимает, что виден как на ладони? Наверное, не понимает, иначе бы сменил тактику. А пришел он чего-нибудь клянчить».
— Здравствуйте, — пожала я протянутую руку, — садитесь, пожалуйста. Только моя фамилия Староверцева, а не Росо.
— Как так? — удивился он, огорченный тем, что заряд пропал даром. Открытая улыбка увяла, он даже оглянулся было на дверь. — А мне сказали, зайдите в кабинет номер шестнадцать, товарищ Росо вам все объяснит и поможет.
— Все правильно. Дело в том, что РОСО — это районный отдел социального обеспечения, а я инспектор отдела Староверцева Елизавета Дмитриевна. Чем могу служить?
— Ах вот как! Извините, извините! У меня вот какой вопрос... Я думаю, вы быстро его решите. Мелочь... У вас ведь в руках большая власть. Понимаете, какое дело, я прописал у себя в Москве старуху мать. Хотелось, понимаете, чтобы поближе она была, на глазах, так сказать. Старая, больная женщина и все такое. А ей не понравилось в Москве, не привыкла, уехала обратно в деревню. Так вот мы хотим, чтобы ее пенсию посылали в деревню, а не в Москву. Она теперь там живет. Беспокойство вам, конечно, то на Москву переводим, то на деревню, но что поделаешь со старухой... Надо ей помочь.
Мне уже все было ясно. Но на всякий случай я решила проверить себя.
— Вы давно получили квартиру?
— Месяца два назад. — Лицо у него было отнюдь не доброе. Не дай бог прийти к такому с просьбой.
— И какая же у вас площадь?
— Сорок четыре метра. Но это не имеет отношения...
— Какая семья?
— Послушайте, этим занимается Моссовет. Я прошу вас только перевести пенсию моей матери. — Он понял, что его раскусили, прекрасно понял.
— Но все-таки. Какая же у вас семья и прописана ли мать?
— Мать прописана.
— В таком случае ничем помочь вам не могу, — сказала я сухо.
Сказать бы ему: «К великому своему удовольствию, я ничем помочь вам не могу», но я обязана быть вежливой.
— Пенсия высылается только по адресу, по которому прописан пенсионер. Если вы хотите, чтобы ваша мать получала пенсию в деревне, надо выписать ее из Москвы.
Тут бы ему откланяться и уходить, но не так устроены эти люди.
— Я понимаю. Но возможны же исключения... — проговорил он ласково. — Вам же ведь ничего не стоит... А я бы...
— Что вы бы?
— Да нет, ничего...
— Исключения?! Почему же мы должны делать для вас исключения, обходить существующий порядок, нарушать закон? У вас есть какие-нибудь особые заслуги перед людьми?
Вот такие и сдавались в плен добровольно, служили полицаями, гребли под себя. Слава богу, понял, что здесь ему не выгорит. Пошел искать другое место. Видно, заметил кое-что в моих глазах...
Вновь открылась дверь. Поднимаю голову, господи боже мой, Теша!
— Здравствуйте, Елизавета Дмитриевна.
А у меня ноги отнялись. Подошел, руку поцеловал.
— Здравствуй, Теша, здравствуй, дорогой! Садись, — погладила я его по жестким курчавым волосам.
Как он возмужал! Совсем другой человек, совсем взрослый! Даже вырос как будто. В плечах стал пошире. А в глазах спокойная уверенность сильного и доброго человека. Сел, руки без пальцев не прячет, скрестил их на колене, смотрит на меня с любовью.
— Разрабатываю ногу. Хожу, гуляю. Решил к вам зайти.
— Спасибо, Теша, я рада тебя видеть. Ты изменился.
— Да, может быть...
— Как у тебя с учебой?
— А что с учебой? С учебой все в порядке. На год отстал от своих, но это не важно. Много читал по специальности. Наш проректор Бураханов книги присылал. Папа привозил, а здесь ребята носили. На год отстал, но время не потерял.
— А дома как? — спрашиваю.
— Дома все хорошо.
— Ну слава богу! Твой отец достойный человек. Я войны только с краешка хлебнула, а он все прошел, от самого начала и до конца.
— Да... вы правы.
— Хорошо, что ты понял это.
— Поваляешься полгода в больнице, многое поймешь...
Он немного помолчал, а потом спросил:
— Вы не се́рдитесь на меня, Елизавета Дмитриевна?
— Нет, Теша. Я думаю, это была инициатива Игоря. Так ведь?
— Не совсем. Мы вместе решили. Понимаете, Елизавета Дмитриевна, я и сейчас не оставляю мысли подняться на Ушбу. Но только не так... Я буду заниматься альпинизмом, ездить в горы, в альпинистские лагеря, наберусь опыта. Стану инструктором, буду людей учить, как Сей Сеич. Хочу работать на Памире и на Тянь-Шане. Мне думается, я буду там полезен.
Опять мне стало страшно, внутри все так и сжалось.
— Опасно ведь это, Теша.
А он отвечает:
— Но ведь работать в горах кто-то должен? Опасно, если не знаешь альпинистской техники. А я буду мастером спорта.
— Ох, Теша, легко ли будет твоим родителям в постоянном страхе жить?
— Со мной лежал один мужик, с табуретки в пьяном виде свалился — перелом позвоночника. Мы с папой говорили об этом. Риска не будет, Елизавета Дмитриевна. Нас Сей Сеич учил: альпинизм — это искусство избегать риска. Мы тогда не поняли этого.
Возможно, так все и должно быть. У нашего поколения были свои трудности и проблемы, у них свои. Мужчины не могут жить без борьбы. Этот мальчик может так говорить. Он так же, как и я, приобрел на это право дорогой ценой.
Теша поднялся.
— Мы с папой о вас много говорили. Разрешите мне к вам заходить. Я теперь домой к вам приду. Пешком.
— Конечно, Теша, обязательно приходи. Дай я тебя поцелую.
Я взяла в руки его большую голову, поднялась на цыпочки и поцеловала в заросшую переносицу.
Он ушел, а я села и расплакалась. Давно уже ни слезинки, и вот на тебе...
В дверь заглянули и сразу же закрыли ее. Вытерев слезы, я сказала:
— Пожалуйста! Следующий!
Алексей Алексеевич