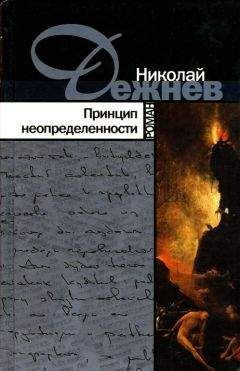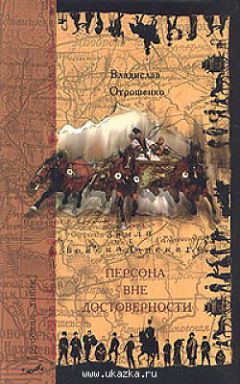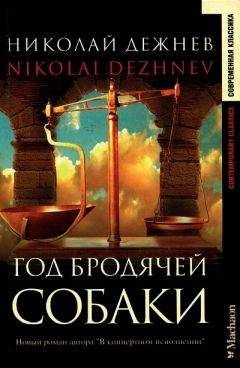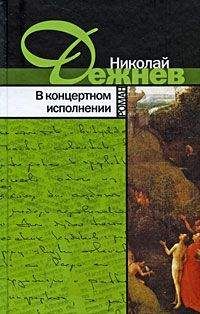Владислав Отрошенко - Персона вне достоверности
Ничего этого не случилось, конечно. Но и приветливая, созерцательная безмятежность не воцарилась в душе Малаха так скоро, как того ожидали многие дядюшки. Во всяком случае, на рождественском снимке, где Фелиция Карповна изображает гусара, бессмертный не выглядит умиротворенным. Он смотрит — на кого? на Жака ли, воскликнувшего: «Оп-ля!», или на Клода, добавившего: «Будьет вольшебная птищика!»? — с таким же сердитым недоумением, с каким смотрел в чуланчике на дядюшку Серафима.
Лишь через несколько месяцев, к началу Страстной недели, Малах, по выражению Аннушки, «приободрился сердцем». То есть он по-прежнему оставался неподвижным, по-прежнему целыми днями сидел, подпирая клюкой подбородок, на пухлой репсовой оттоманке, полюбившейся ему еще с Рождества, и по-прежнему никого из дядюшек — с какими бы задушевными речами ни обращались они к родителю, поочередно подсаживаясь к нему, — не узнавал. Но способность взирать на всех и на всё с жизнерадостным, ласковым равнодушием вернулась к нему. И эта счастливая способность не покинула его, как свидетельствуют творения светописцев, ни на Пасху, когда, вызванный Аннушкой по телефону («Ах, голубчик Викентий Самсонович, об этих шутах французах я и слышать теперь не хочу!»), явился снимать Кикиани, ни позднее, в день похорон Глафиры, третьей супруги дядюшки Анастасия, когда по какой-то, так и не выясненной причине — одни говорили, что по настоянию Аннушки, накануне повздорившей с Кикиани, другие же утверждали, что по требованию самого вдовца, неугомонного греховодника, давно и страстно влюбленного в насмешливую Фелицию, которая обожала Жака и Клода, называя их «миленькими Шевалье-Дуралье», и которая будто бы и склонила ветреного селадона к такому кощунственному решению, — съемка траурной церемонии была доверена весельчакам и фатам.
Они же, легкомысленные французы, чудом вывернувшиеся из-под Аннушкиной опалы, снимали и год спустя, в день помолвки дядюшки Анастасия с Иосиной падчерицей Полиной, старшей дочерью Фелиции Карповны. Но бессмертного уже нет на тех безупречно отчетливых (художники все ж таки иногда изменяли торопливой простушке — своей бойкой, неряшливой музе), напоенных холодной, непроницаемой ясностью снимках, где, увы, нельзя угадать ни предшествовавшего съемке, ни последовавшего за ней движения, — где дядюшка Иося, как бы скованный самим воздухом, сдавленный, как и все на этих сухо лоснящихся карточках, неким плотным пространством цвета слоновой кости, смотрит с грустным укором на дядюшку Анастасия, а дядюшка Анастасий тем временем деловито, безо всякого удовольствия, но и без видимого отвращения целует… ах, нет, скорее обследует, словно он не жених, а бесстрастно учтивый, подслеповатый доктор, вялую руку долговязой Полины, вспоминая, быть может, как третьего дня в вечерней кондитерской Феоктиста Присягина (которую, между прочим, облюбовал для шумных воскресных попоек и дядюшка Порфирий, не раз грозившийся на нетрезвую голову подпалить — от избытка любви к нему — это «дьявольски чудное заведение») с наслаждением целовал другую, обольстительно маленькую и упругую, своевольную ручку — ту самую ручку в тяжелых перстнях поверх кружевной перчатки (Фелиция, говорили, обожала кружево не меньше, чем Жака и Клода), что держит теперь грушевидный бокал, искажающий влажным стеклом статуэтку косматого Пана и циферблат каминных часов… без четверти шесть пополудни…
Малаха не было и на свадьбе дядюшки Анастасия. Просидев больше года на оттоманке, с которой он, как казалось, уже никогда не расстанется, бессмертный однажды утром поднялся, удивив всех решительным, воинственно-бодрым видом, и, напевая Егерский марш, чьи жизнерадостно злобные звуки — «тум-па-ба-бим! бим-па-ба-бам!» — быть может, и оживили его, нечаянно вспомнившись в полудреме, проворно вышел через южную дверь из шестиугольного зала. Никто из дядюшек не сомневался, что их своевольный родитель, вдруг ободрившийся не только сердцем, но и дремучим, свободным от беспокойного коловращения жизненных соков, высохшим до воздушной легкости телом, двинулся («Чтоб его там проглотил сатана!» — в сердцах воскликнула Аннушка) прямо в чуланчик. Однако ж никто из них — ни дядюшка Серафим, нацелившийся было преградить путь родителю и даже уже раскинувший для этого руки в дверях, но тут же отступивший, ни дядюшка Павел, пообещавший Аннушке минуту спустя, что он сейчас же догонит папеньку, схватит его, принесет назад и усадит на оттоманку, ни дядюшка Нестер, вызвавшийся всячески подсобить в этом брату, «если, конечно, потребуется, Павлуша», — никто не осмелился остановить Малаха, потому что, во-первых, всем было ясно, что не каприз, не пустая прихоть, как думалось Аннушке, а властная, мстительная, необоримая сила влечет Малаха в далекий чуланчик, пленивший его, быть может, беспросветным, надежным мраком — обманным подобием недостижимой смерти, и потому, во-вторых, что лицо родителя могло устрашить в то утро любого из дядюшек. В то утро Малах Григорьевич выглядел таким же непримиримо-грозным, пылким и безжалостно-веселым, каким однажды запечатлел его неведомый светописец где-то в Галиции, на Юго-Западном фронте, возле груды колес, изогнутых рам и изрубленных тел (все, что осталось от опрометчивой австро-венгерской велосипедной роты, вступившей в баталию с казачьим разъездом) и каким он явился чуть позже Аннушке в ужасающем сновидении, которое побудило ее исполнить немедленно последний завет Антипатроса, то есть сдать в проклятый сиротский приют малютку, оторвать, отторгнуть от сердца живую, теплую драгоценность, потому что не оторвалась, не покатилась с разинутым ртом в бурьян холодная голова чудовища!.. Потому что чудовище в полном здравии, вооруженное пикой, винтовкой и дьявольски острой шашкой, уже возвращалось с войны! Потому что оно уже двигалось к дому то ли с запада, то ли с востока! Потому что по пестрым сарматским или рыжим ногайским равнинам оно уже пробиралось, свирепое, пугая удодов и ящериц, к тем высоким парадным дверям, что в хрустально-звездную ночь распахнул для Любви вдохновенный грек!.. Потому что, в конце концов, о белокудрые баяны и смуглоликие риши, дядюшка Семен не такой уж степенный сказитель, чтоб, бряцая по самым заветным струнам своей уязвленной души, говорить без слез и обиды, без горестных жестов и вздохов о том, как в другую, беззвездную ночь его привезли, Боже правый, словно ненужную ветошь, в обшарпанном сундучке, гораздо более тесном и душном, чем провонявший гнилью чуланчик, что обернулся узилищем для истукана (скромное Ваше возмездие, о Силы Небесные, за муки младенца), в жалкий сиротский приют!..
Приют (ах, все ж таки надобно, надобно бедному дядюшке успокоиться — «хотя бы затем, сынок, чтоб озарить на миг светильником укрощенного сердца эти печально-дорогие подробности!») обретался в сумрачной глубине обнесенного низкой цепной оградой недужного сквера, в полуистлевшем деревянном строении, заросшем с фасада чахлой лозой и дерзким вьюнком. В этом-то сквере, примыкавшем с севера к Троицкой площади, неуютно сыром, запущенном, начиненном цикадами и сверчками, заглушавшими вкрадчивое журчание невидимых смрадных вод, и поджидала, прячась в высоком кустарнике возле дощатых ворот приюта, однорукого подхорунжего Сашеньку, предателя Иосю и сотника Павла Фелиция Карповна, не позабывшая, слава Богу, о щедрости грека.
Как только они вышли из автомобиля, оставленного с потушенными фарами у фонтана посреди каштановой, мощеной ракушечником аллеи, что вела от площади через сквер к приюту, Фелиция выбежала им навстречу, трижды взмахнула белым платком, как условился с нею в разговоре по телефону дядюшка Павел («Если все будет в порядке, барышня…»), а затем провела их во двор приюта, в небольшой, об одном окошке флигель, где спал на печи опоясанный саблей, смертельно нетрезвый приютский сторож. Улыбаясь лукаво, Фелиция сообщила, что это она прислала на ужин сторожу — якобы от князя Черкесова, в честь праздника Зосимы пчельника — два штофа злой медовухи и что сторож, по ее разумению, проснется не раньше, чем на рассвете. На рассвете — «Сундучок вы должны оставить здесь, господа!» — он нечаянно обнаружит младенца и, разумеется, тут же явится с ним, виновато моргая глазами, к Фелиции Карповне. А уж Фелиция Карповна, сударики вы мои, будет и ласково удивляться, разглядывая миленького подкидыша, и бранить на чем свет стоит безмозглого бражника сторожа за то, что ему — помилуйте, барыня, — по причине бедственной нечувствительности не удалось разведать, когда и какие такие злодеи избавились от дитяти, и за то, что дитя, быть может, томилось всю ночь в сторожке, рыдая от голода и тоски.
— Словом, всё обустроится наилучшим образом! — пообещала с пылкой приветливостью подкупленная смотрительница.
Приветливость эта, однако, вовсе не помешала дядюшке Павлу, возлагавшему, как он сам выражался, «больше надежд на грозное слово, чем на блазнящее злато», сурово заверить смотрительницу, что он задаст ей хорошего феферу, если она вдруг надумает оповестить достойнейшего господина попечителя, коротко знакомого с Малахом, или кого бы то ни было о происхождении младенца.