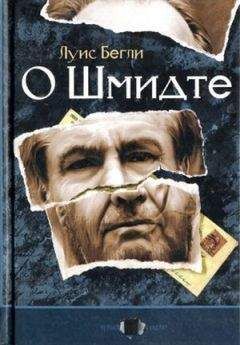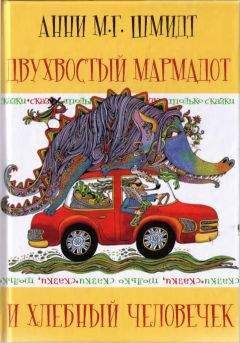Вионор Меретуков - Меловой крест
— Тогда напиши на салфетке…
— Ну его, к черту, этого Бову!..
— Но все же, что он тебе сказал?
Шварц пожевал губами, но промолчал.
— А что Бова мог ему сказать? — подал голос Иеронимус. — Прошла мода на Сему — вот что он ему сказал. Скончался художник Симеон Шварц. Теперь у Семы три пути. Один — это прикончить Бову, заколов его вилкой. Но Бову так легко не проткнуть, у него сала под рубашкой, что у твоего борова. Или закосить под Пикассо и стать пикассистом. Сема, хочешь быть пикассистом? А что? Открыть, так сказать, новую страницу своего многогранного творчества. У всех приличных художников были периоды. Не к ночи еще раз будь помянут, тот же Пикассо — еще в юности решил, как вы, наверно, знаете, всю предстоящую ему жизнь, — а прожил он, собака, дай Бог каждому! — условно разбить на периоды, обозначив каждый для удобства каким-либо из цветов радуги. Так у него сначала появился розовый — это когда он девушек молоденьких совращал, потом — красный, когда он перекинулся на пожилых теток, а потом и голубой — когда он обрел под старость нечеловеческую силу и дорвался наконец-то до мужиков. Если у тебя, Сема, раньше был всё больше красно-коричневый период, когда ты последовательно малевал передовиков производства, ударников коммунистического труда, деятелей партии и правительства, потом новых русских со слишком красивыми фамилиями, то следующим может стать какой-нибудь грязно-серый или черный. Кстати, чем плох черный? Будешь считаться последователем великого Малевича…
— Этот путь мне не подходит! — выкрикнул Шварц. — А третий?..
— Закопать свой талант у Кремлевской стены и повеситься. Кстати, этот вариант устроил бы всех. И твоих врагов и друзей… Только не умирай сегодня, ты еще должен расплатиться за наш портвейн…
Шварц скривился:
— Плоско, грубо… — он посмотрел на меня. — Разве дождешься от этих негодяев дельных слов! Но ты-то, Сереженька, друг мой сердечный, что молчишь?
— Хорошо здесь у вас… Душой отдыхаешь. А то все эти да эти… Бовы и прочие гады, — я посмотрел на Шварца. — Поехал я… Дела…
— Чур, я с тобой, — заспешил Шварц. Он поднялся и достал из кармана деньги. — Пейте, други, и не поминайте лихом древнерусского богатыря Симеона Авелевича Шварца…
Глава 19
…Зачем-то я поехал к Сёме. Может, потому что меня страшила моя пустая квартира, и мучила мысль, что мне надо будет как-то убивать время, слоняясь по комнатам в поисках утраченного рая? Да, убивать время, приканчивать то, дороже чего может быть только жизнь, которая, если разобраться, и есть время! Твое время, твое отмеренное Богом персональное время… Вместо того чтобы делать дело. Делать дело надо… Так говаривал, театралы знают, один небезызвестный чеховский персонаж, сам ни черта не делавший, но призывавший к активной деятельности других.
Или поехал я к Шварцу по другой причине? Бывает так, уже решишь не поддаваться уговорам и не ехать куда-то, где тебе, ты это твердо знаешь, будет и скучно и муторно, но, тем не менее, едешь, проклиная себя за слабость воли, а уломавшего тебя приятеля — за назойливость.
— Ты, правда, можешь сглазить кого угодно? Говорят, что… — тихо спрашивал Сёма, отворачиваясь от таксиста, чтобы тот не слышал.
— Кто говорит? — лениво переспрашивал я и отворачивался в свою очередь от Шварца, сонно поглядывая на мелькающие за окном улицы, толпы пешеходов и стада машин.
— Да все говорят!.. Сереженька, сглазь Алекса! Этого мужепёса, возомнившего себя громовержцем. Шандарахни по нему своим волшебным талантом чернокнижника! Знаешь, так широко, по-нашему, по-русски! Эх, раззудись плечо… Чтобы от него, от Алекса, остался только вишневый блейзер!
— Сёма! — повернулся я к нему. — Почему ты постоянно провоцируешь собеседника на разговоры вокруг еврейской темы? Раньше мне всегда казалось, что это русские виноваты, если в компании вдруг возникают разговорчики об этом… Теперь вижу, это вы… Шварцы! Чтобы потом обвинить русских хамов в антисемитизме…
Шварц рассмеялся.
— Это мы защищаемся… Опережаем вас, дураков. Со времен известных и неизвестных евреи должны были вертеться, как ужи на сковородке… Мне, например, в каждом слове, произнесенном не мной, слышится подтекст. Хотя на самом деле его может и не быть. Я всегда настороже. Это уже в крови… Ты знаешь, я ведь не всегда был евреем…
— Ты неисчерпаем, ты неистощим, ты бездонен, о, беспутный сын Рахили и Авеля… Как это — не всегда был евреем?! Кем же ты был? Персом? Халдеем? Или, может, печенегом!
— Если ты и читал Тору, то так, как ее читают безбожники, то есть слева направо. А надо — справа налево. Поэтому ты не знаешь, что у Рахили и Авеля не могло быть детей… А я сын Авеля Шмулевича и Фаины Моисеевны… Запомни, Авеля и Фаины. И до шести лет я вообще считал себя человеком без национальности, поскольку, что такое национальность, узнал, когда кто-то из окружающих сказал мне, что я еврей. Это меня так потрясло, что я несколько дней не подходил к зеркалу. Я тогда, пожалуй, впервые в жизни по-настоящему задумался о себе как о самостоятельной личности. Должен заметить, что, обозначив мою национальную принадлежность, мне никто не удосужился объяснить, что вокруг меня были просто залежи евреев, среди которых были и мой отец, и мать, и их многочисленные близкие и дальние родственники. Я был засыпан евреями, как снегом. Но я долгое время — вот же дурачок! — полагал, что во всей семье Шварцев еврей только я один, а остальные — не евреи. И это оказало влияние на всю мою последующую жизнь. Я тогда впервые познал, что такое быть одиноким… Ну вот, мы и приехали…
Шварц жил на Мясницкой. Его двухэтажная квартира, которую он получил еще в коммунистические времена, была огромна. Естественно, картины, дорогая мебель… Собственно, Шварц занимал три этажа, потому что еще один этаж был отдан под мастерскую.
— Сёма, тебе не тесно здесь, в этом бидонвиле? Я тоже хочу хибару в три этажа с мастерской, в которой бы стояли удобные диваны для совместного отдыха с прелестными натурщицами… Сема, мне сорок лет, а у меня до сих пор нет настоящей мастерской… Я работаю где и как придется.
Шварц плотоядно ухмыльнулся:
— Работать надо, друг мой! Работать! За всем этим стоят годы и годы самоотверженной работы! Я заслужил!.. Я все это нажил непосильным трудом… Вот, будешь хорошо себя вести, и у тебя будет такая же квартира… Но как ты бестактен, однако… Напросился в гости, а теперь кроешь хозяина, будто он вор какой… Знал бы ты, как долго я шел к материальному благополучию! Когда я, бедный, некрасивый еврейский юноша, удостоился первый раз доброжелательного внимания критики, — в "Вечерке" меня похвалил какой-то сострадательный журналист, обычно специализировавшийся на статьях о весеннем севе, коровах-рекордсменках, надоях и прочем сельскохозяйственном говне и временно брошенный руководством газеты на место ушедшего в отпуск штатного искусствоведа, — то со мной сделалась истерика. Я рыдал от счастья! Я подумал, что теперь мое имя узнала вся интеллигентная Москва. Ты знаешь, что он написал, этот говночист? Вот, послушай. Я помню этот опус наизусть. "Пришла страда. Страда нового художника. Имя ему Симеон Шварц. Имя, вызывающее в памяти бессмертное творение великого русского художника под названием "Грачи прилетели". Шварцы прилетели… Шварцы прилетели… В добрый путь, художник Симеон Шварц. Мы будем внимательно следить за вашим творческим полетом!" Что будешь пить? Виски? Водку?
В гостиной стоял рояль. Я посмотрел на Сёму. Он усмехнулся. Он знал о моей слабости. Обожаю хорошие инструменты. Я музыкант-любитель и, надо признать, любитель неважный. Но Равеля играю вполне сносно…
Большую комнату наполнили божественные звуки. Я из заключительной части "Отражения" с выгодой для себя выдрал несколько умопомрачительно торжественных аккордов, которые мне удалось взять без ошибок. Казалось, рояль играл сам. Без моего участия.
Как кисть, которая создала картину, где улица, женщина и мальчик под дождем…
Я закрыл глаза. Запахи уставшего за день моря и знакомых духов, переплетаясь и требовательно взывая к смутным воспоминаниям, вдруг нахлынули на меня из прошлого и окатили мягкой волной… Я отнял руки от клавиш и приблизил их к лицу. Пальцы исходили этими запахами, как ядовитый сказочный цветок исходит прельстительным и сладостным соком…
— Ушла поэтичность, — услышал я голос расчувствовавшегося Шварца. Он неслышно подкрался ко мне. В руках он держал два стакана. — Ушла поэтичность, женственность… Ушло то, что должно побуждать человека творить…