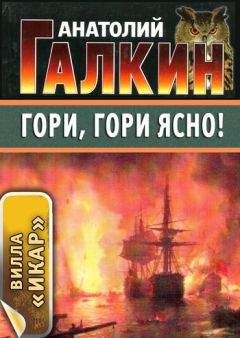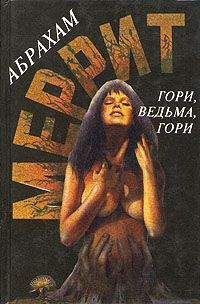Журнал «Новый мир» - Новый мир. № 3, 2004
…Когда во второй половине восьмидесятых мы встретились с Огурцовым в Мюнхене после его двадцатилетней отсидки, я поинтересовался, читал ли он на момент создания своей программы «Духовные основы общества» С. Франка. Игорь Вячеславович ответил твердо, что не читал. Что ж… «Эту программу, — пишет Бородин, — ему, И. В. Огурцову, продиктовали, с одной стороны, понимание сути и перспективы коммунистического режима в России, с другой — верностью и любовью движимое стремление во что бы то ни стало предотвратить национальную катастрофу, распад и развал России, к чему как по наклонной скатывалась власть, утратившая чувство собственной реальности». От себя же добавлю, что, на мой взгляд, программа ВСХСОН — редчайший пример политического откровения. В частности, это подтверждается и тем, что Огурцов с той поры ничего больше не создал: все его силы ушли на героическую отсидку. И как ни понуждал я его в Баварии написать книгу воспоминаний, как ни предлагал совершенно бескорыстную помощь в обработке даже не рукописи, а хотя б диктофонной записи — так ничего и не смог от него добиться.
Но насколько импонировала мне всхсоновская программа теоретически, настолько настораживала практически: ведь предполагала она разветвленную подпольную сеть. Тут мне, видимо, повезло больше, чем Леониду Бородину: достоевских «Бесов» прочитал я не в двадцать девять, как он, а в девятнадцать…
В мордовском Дубровлаге в конце шестидесятых сидело немало «звезд первой величины», среди них и Андрей Синявский. Рассказ о нем — один из самых ярких у Леонида Бородина. И не забыть истории о вечере памяти Николая Гумилева: «Это было двадцатого августа шестьдесят восьмого года, как мы тогда считали, в день расстрела поэта Николая Гумилева <…> которого то ли по незнанию, то ли по недоразумению зеки разных национальностей считали поэтом лагерным и соответственно своим. <…> Месяцем раньше мы провели вечер Тютчева…» Любовь к Гумилеву у Бородина выходит за рамки просто любви к поэзии: очевидно, сам образ расстрелянного большевиками «солдата» играет тут особую роль; тип же сознания Бородина таков, что героические мифы для него — лучшее топливо.
Ну а Синявского я встретил тоже уже в Европе и не могу не согласиться с Бородиным: «Эмиграция его не состоялась настолько, чтобы говорить о ней как о некоем этапе жизни „на возвышение“. Правда, мне мало что известно… Но, слушая иногда его по Би-би-си, где он одно время „подвизался“ на теме русского антисемитизма (насчет Би-би-си мне, правда, неизвестно: мы встречались с ним в коридорах парижского бюро „Свободы“, но тема „антисемитизма“ и впрямь была одним из его коньков и дубинкой, которою он махал перед воображаемой фигурою Солженицына на своих вечерах и в Европе, и в США. — Ю. К.), отмечал, что даже в этой на Западе столь „перспективной и продвигающей“ теме он не оригинален в сравнении с теми же Яновым или Войновичем, которые „сделали себя“, сумев перешагнуть ту грань здравого творческого смысла, за которой только и возможно подлинное бешенство конъюнктуры». С этим же — добавим от себя — гастролируют они сегодня и в «новой, демократической России», ибо тут у нас все теперь как на Западе, и спрос на такие штуки велик.
Девять из одиннадцати лет двух сроков заключения Бородин провел не в лагерях, а в тюремных камерах. Первый раз освободился писатель 18 февраля 1973 года из Владимирской тюрьмы — в ссылку. Но девять лет свободы — в нищете и мытарствах — оказались в некотором роде не легче неволи: «Бравым „поручиком Голицыным“ вышвырнулся я из стен Владимирского централа. „Капитанишкой в отставке“ забирали меня „органы“ в 82-м. И хорошо, что „забрали“. Экстремальность ситуации способна возрождать человека, выпрямлять ему позвоночник, возвращать глазам остроту зрения, а жизни смысл, когда-то отчетливо сформулированный, но утративший отчетливость в суете выживания».
Вторично Бородин был арестован в мае 1982-го. А у меня 19 января того же года провели обыск. И работал Бородин в это время сторожем на Антиохийском подворье, возможно, и пришел туда прямо на мое место. Ведь я-то уже засобирался на Запад — органы так решили: «Второго Гумилева делать из вас не будем». Я любил Россию, но — в отличие от Бородина — «клятвы верности» не давал (то есть физической клятвы, как это сделал он, вступая во ВСХСОН). И, как замечено в каком-то моем стишке, «сладкая неизбежность встречи с Европою» уже, что называется, овладела моим сознанием.
Бородин же получил чудовищный, несуразный срок — десять и пять ссылки: на нем отыгрались за многих тогдашних тамиздатчиков — Владимова, меня и других, — внаглую перекочевавших из самиздата в тамиздат.
Слава Богу, астрономический второй срок Бородин не отсидел и вместе с другими политическими освободился через пять лет. Но мытарств и физических мучений все же выпало на его долю столько, что, когда вместо подозреваемого рака горла ему диагностировали «только» хроническую ангину, он испытал «смятение, необъяснимое отчаяние и нехорошее, нездоровое возбуждение, всплески беспредметной ярости и, наоборот, — несколькочасовой апатии, когда сидел на шконке не только без движений, но, кажется, даже и без мыслей вовсе. Помню, вскидывался вдруг и произносил вслух: „Опять жить“. И начинал топать по камере туда-сюда… Какое счастье, что был тогда один! Что никто не видел этой позорной ломки. <…> Через полтора года я освободился под аккомпанемент государственного развала».
…Страницы жизни Бородина в посткоммунистическую эпоху не уступят по драматизму его гулаговской эпопее. Ибо что делать максималисту, моралисту и патриоту — в Смуту? «Цинизм, — пишет Бородин, — безответственная форма душевной свободы. Но именно люди этой породы оказались в итоге более подготовленными к смуте, ибо никакие принципы не связывали им руки. Не связывали до того, и они успешнее прочих сумели пробиться в информированные и властные структуры общества, и уж тем более — после того, когда рухнули всяческие преграды к инициативе самореализации <…>». Циники составили, так сказать, материальный костяк либерального стана, где были, разумеется, и свои идеалисты, и свои «полезные идиоты». Но только русскому патриоту, державнику не по пути с теми, кто «либеральные ценности» ставит выше «любви к родному пепелищу, любви к отеческим гробам».
И как там дальше у Пушкина:
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.
Самостояние — трудная это вещь, чреватая большим одиночеством. Отсюда и метания, и «заглядывания» Бородина в тот патриотический лагерь, который, увы, повязал себя с советизмом, да не просто с советизмом, а с его, как выяснилось, наиболее соблазнительной для державников, а следовательно, особенно злокачественной сталинистской разновидностью. Страницы полемики со Станиславом Куняевым — тоже очень содержательны, интересны. Но вот ведь парадокс: в том же номере журнала «Москва», где публиковались мемуары Бородина (журнале, который он редактирует), всего-то через пару десятков страниц, в публицистике, можно прочесть про «И. В. Сталина и его соратников, связавших свою судьбу именно с Россией и ставивших государственные интересы выше интересов мировой революции». Если в бородинской «Москве» так пишут о кровавом «кремлевском горце», то чего же ждать от куняевского «Нашего современника»?
В главе «Девяносто третий» метания Бородина достигают, кажется, своей кульминации. Я и сам в те дни маялся возле Белого дома, ни минуты не сочувствуя, конечно, ни красным, ни Руцкому, ни Хасбулатову. Последнего в ту пору почему-то особенно раскручивала прохановская газета. Помню снимок: скинувший пиджак Хасбулатов стоит в чистом поле по колено в росной траве. Без очков и не разберешь: уж не Сергей ли это Есенин?.. Накануне штурма через горы арматуры вечером пробрался к Белому дому. Какой-то юноша, почему-то в плащ-палатке, восторженно читал вслух Ивана Ильина «Наши задачи»; девушки у костерка возились с бутылками — так, понимаю, готовили «коктейль Молотова»? — и пели, тихо, но красиво пели «То не ветер»; старик в хламиде, с бородой, растущей прямо от глаз, проповедовал о Страшном Суде… В общем, какие только типы и персонажи не повстречались там мне уже ближе к полуночи. Но — так запомнилось — у всех зеленоватый, фосфоресцирующий в лицах оттенок, видимо, от специфики освещения…
Утром приехал туда на первом поезде метро — дошел от Смоленки до углового дома напротив мэрии; позже по Кутузовскому вдруг поползли танки. Когда прямой наводкой начали они палить по Белому дому, прикурил у стоящего неподалеку мужчины и только стал отходить на свое прежнее место шагах от него в пяти, как он упал ничком без движения. Не сразу мы поняли, что он убит наповал, даже когда бурое пятно стало проступать сквозь его рубашку. Убит? Кем? Никто не слышал, чтоб просвистела пуля… Помню, после очередного залпа прямо из середины белодомовского массива вылетел большущий письменный стол и стал парить, видимо, на воздушной волне, а кипы бумаг, как чайки, разлетались в разные стороны. Были среди нас, «любопытных», и те, кто приветствовал каждое попадание снаряда смехом, аплодисментами. Наконец я не выдержал и одернул весельчаков. И вдруг в ответ: «Стыдитесь, Кублановский, вам-то чего…» Я обернулся — красивый еврейский юноша ненавистно блестел на меня глазами. Ненавидит? Меня? За что? Да меня гнобила советская власть, когда ты еще под стол пешком ходил, демократ.